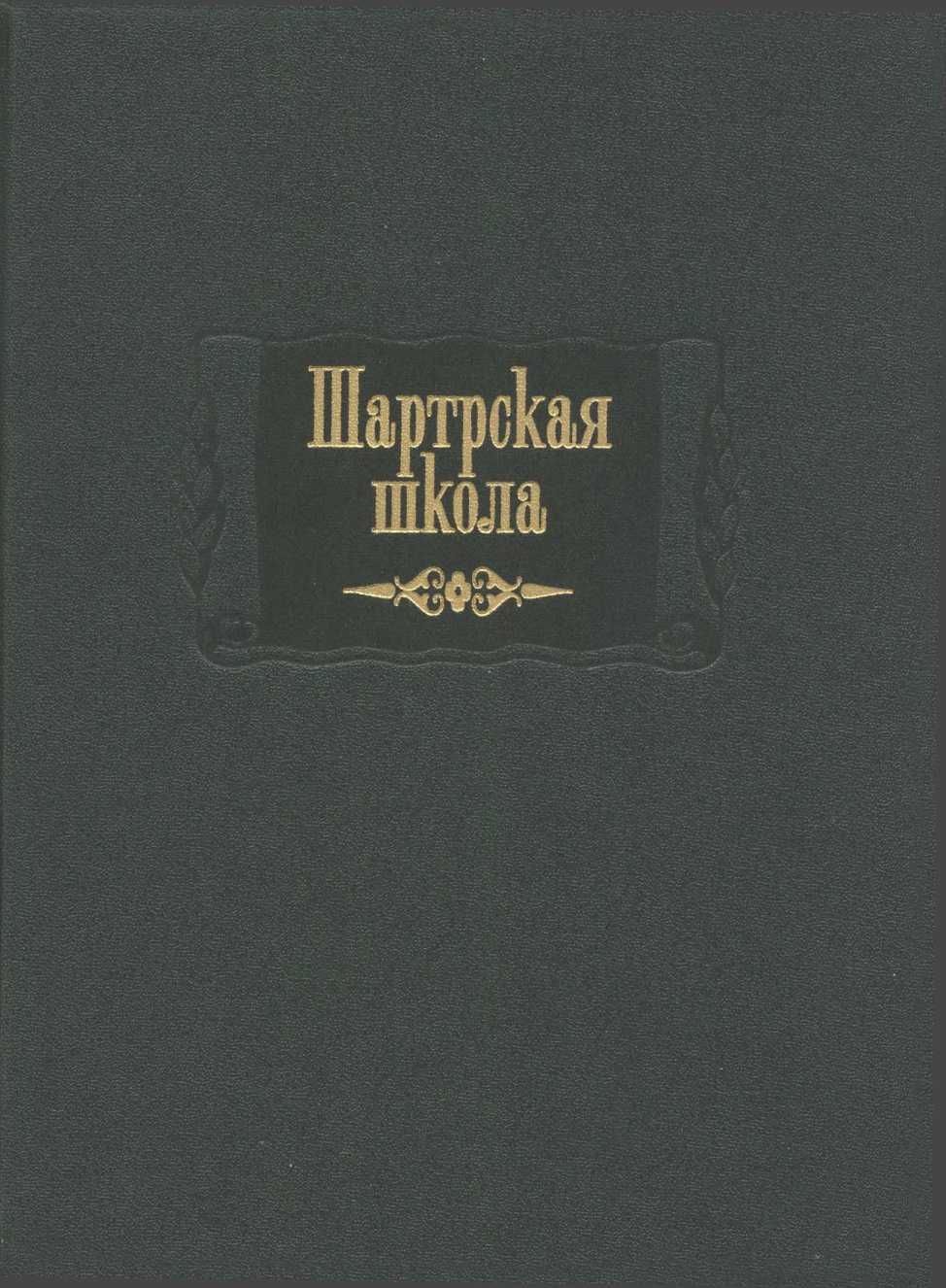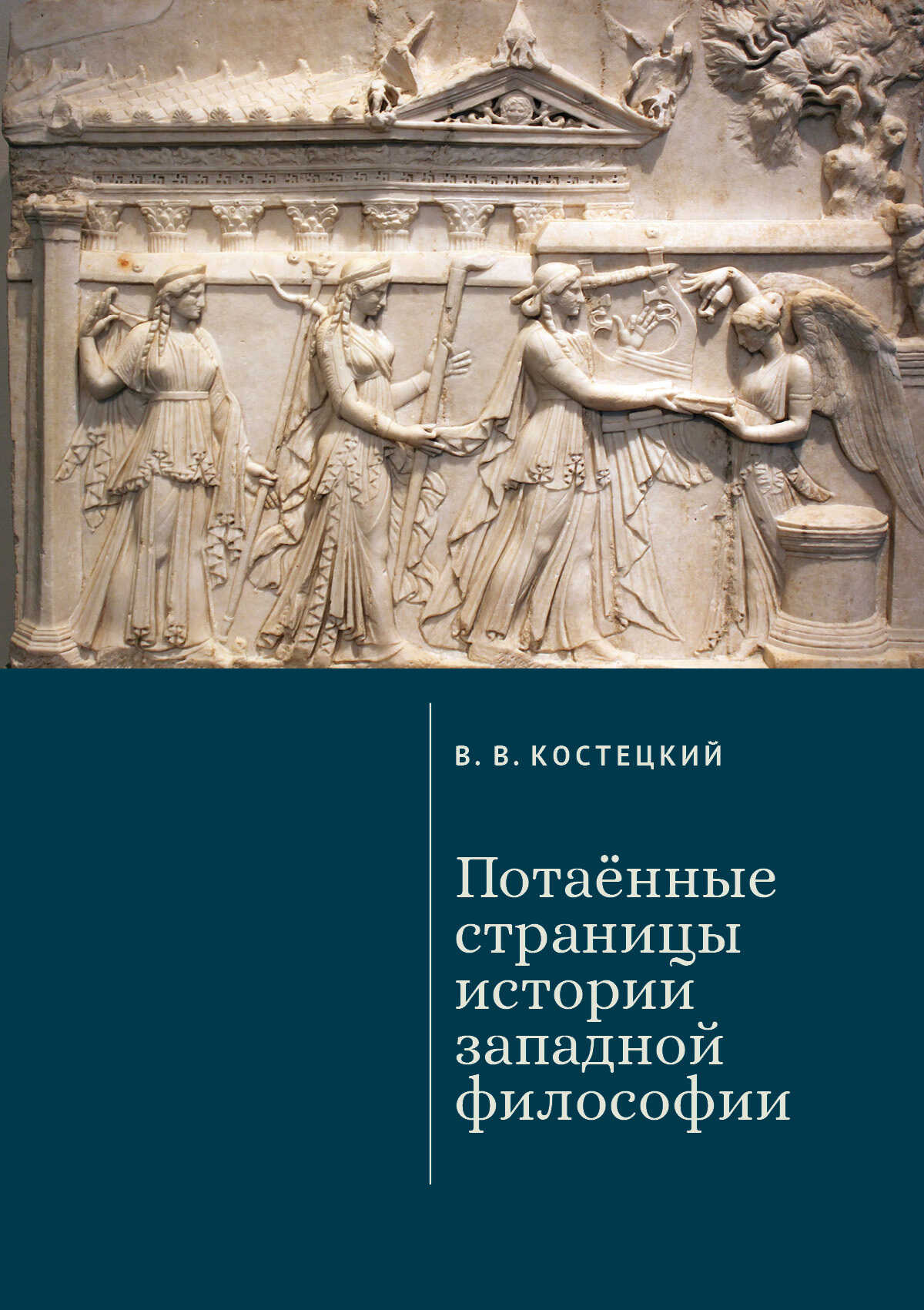эта разница существует, и я бывал счастлив не благодаря письму и всему, что ему сопутствует (а я не уверен, что такое когда-нибудь было), но именно в те моменты, когда я не мог писать – все-таки вряд ли это было во время поездок, – но потом все сразу же переворачивалось с ног на голову и тоска по письму превозмогала. Из этого, понятно, не следует делать вывод, будто это какая-то основополагающая, врожденная и почтенная писательская черта219.
«Почтенным» его отказ от счастья не назовешь, поскольку он сулит счастье более высокого порядка, которое называется писательством. Его стремление к удовольствию капитализирует даже труп. Его боязнь смерти, вероятно, возникает от того, что смерть есть нечто совершенно иное по сравнению с поиском удовольствия: «Моя жизнь была слаще, чем жизнь многих; и смерть моя будет страшнее». С этой точки зрения нет никакой принципиальной разницы между письмом, которое основано на «отрицательном», и письмом, которое полностью совпадает со счастьем. Писатель постится ради письма, которое обещает высшее удовлетворение. Он фанатично предается посту и даже голоданию.
Кафкианский «Голодарь» [54] рассказывает историю страсти писателя. Рассказ начинается с диагноза времени: «За последние десятилетия интерес к искусству голодания заметно упал». Итак, действие происходит в эпоху, когда люди все меньше интересуются страстью голодания, да и страстью вообще. С другой стороны, страсть «мученика» голодания не является чистым страданием, поскольку отказ от пищи делает его счастливым: «Только он один знал – чего не ведали даже посвященные, – как в сущности легко голодать. На свете нет ничего легче. И он говорил об этом совершенно открыто, но ему никто не верил, и в лучшем случае его слова объясняли скромностью, но большинство усматривало в них саморекламу». Голодарь страдает прежде всего от того, что ему приходится прекращать свою голодовку всякий раз слишком рано и против собственной воли. Его слабость к периодам голодания является исключительно «следствием преждевременного окончания голодовки». Только стратегические соображения рекламы прочно устанавливают длительность голодания. Теперь реклама всецело определяет страсть. Поэтому у голодаря и усматривали стремление к «саморекламе». Важнее всего максимально привлечь внимание «публики»: «Импресарио установил предельный срок голодовки – сорок дней, дольше он никогда не разрешал голодать, даже в столицах, и на то была серьезная причина. Опыт подсказывал, что в течение сорока дней с помощью все более и более крикливой рекламы можно разжигать любопытство горожан, но потом интерес публики заметно падает, наступает значительное снижение спроса». Страсть голодания как развлечения подчинена диктату рекламы.
Интерес «алчущей развлечений толпы» постепенно ослабевает. Пропавший интерес к страстям голодания, к страсти вообще, загоняет голодаря в цирк. В клетке рядом с конюшней влачит свое жалкое существование мученик голода, и наконец о нем забывают даже там. Интерес к страсти голодания исчез окончательно: «Людей перестало удивлять странное стремление дирекции в наше время привлечь внимание публики к какому-то голодарю, и, как только зрители привыкли к его присутствию, участь его была решена. Теперь он мог голодать сколько угодно и как угодно – и он голодал, – но ничто уже не могло его спасти, публика равнодушно проходила мимо. Попробуй растолкуй кому-нибудь, что такое искусство голодания!» Его страстна́я клетка представляет собой всего лишь «препятствие на пути к зверинцу»: «Однажды шталмейстеру бросилась в глаза клетка голодаря, и он спросил у служителей, почему пустует такая хорошая клетка – ведь в ней только гнилая солома. Никто не мог ответить шталмейстеру, пока один из служителей, случайно взглянув на табличку, не вспомнил о голодаре. Палками разворошили солому и нашли в ней маэстро. “Ты все еще голодаешь” – спросил шталмейстер». На вопрос смотрителя, зачем ему непременно нужно голодать, почему бы ему не попробовать жить иначе, голодный художник шепчет ему на ухо загадочную исповедь: «Потому что я никогда не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу. Если бы я нашел такую пищу, поверь, я бы не стал чиниться и наелся бы до отвала, как ты, как все другие». Его искусство голодания оказывается искусством негативности. Он отрицает всякую пищу. Он говорит нет всему, что есть. Однако эта негативность не создает страдания в чистом виде. На ней как раз основывается его счастье. Голодарь, собственно говоря, «слишком предан своему искусству» голодания.
На этом загадочном признании заканчивается история страсти голодного художника. Его хоронят вместе с соломой. На его место селят молодую пантеру. Даже его помещение в клетку стало избавлением, «даже самые бесчувственные люди вздохнули с облегчением». Накормленный зверь является антиподом мученика голода, да и страсти вообще. Из его ярости потоком изливается чуждая всякой тоске радость жизни: «Сторожа без раздумий приносили ей пищу, которая была ей по вкусу; казалось, она даже не тоскует по утраченной свободе; казалось, благородное тело зверя, в избытке наделенное жизненной силой, заключает в себе и свою свободу – она притаилась где-то в его клыках, – а радость бытия обдавала зрителей таким жаром из его отверстой пасти, что они с трудом выдерживали. Но они превозмогали себя: плотным кольцом окружали они клетку и ни за что на свете не хотели двинуться с места». Теперь «алчущая развлечений толпа» радостно устремляется к зверю – новой цирковой достопримечательности. Она полностью отождествляет себя с радостью жизни, которая с жаром вырывается из пасти животного. Гедонистическое утверждение жизни очевидным образом дает передышку от страсти отрицания.
Как гедонистический зверь, так и голодный художник живут взаперти. Но это не исключает счастья. Наоборот, счастье тут даже предполагается. Молодая пантера служит иллюстрацией счастья без страсти, ни о чем не тоскующую радость жизни. Разумеется, застрявшая в зубах свобода комична или абсурдна. Но свобода мученика голодания, а именно свобода отрицания, не менее проблематична. И гедонистическое счастье животного как удовольствие от переваривания пищи, вовсе не по видимости, не обманчиво есть счастье отрицания.
Искусство как страсть, быть может, – это искусство голодания, которое из отрицания того, что есть, делает удовольствие. А потому мученик голодания получает «сладкую, волшебную награду» за то, что его бытие негативно. Голодный художник и гедонистический зверь принципиально друг от друга не отличаются. Императив счастья прочно связывает их друг с другом.
Безмятежность перед лицом мира
К хорошему развлечению человек стремится для того, чтобы с его помощью забыть об отсутствии Бога.
Понятие искусства у Джорджа Стайнера эмфатично. Искусство – это трансценденция и метафизика. Оно внутренне религиозно. Оно дарит нам «исцеляющее прикосновение» с «трансцендирующим»220. Оно есть «эпифания, обретшая форму». Сквозь него «что-то просвечивает»221. Всякое искусство, «принудительное своим величием» (Стайнер особенно ссылается на Кафку), – это «отсылка» к «трансцендентальному измерению», к «тому, что либо эксплицитно – то есть ритуально, теологически, благодаря