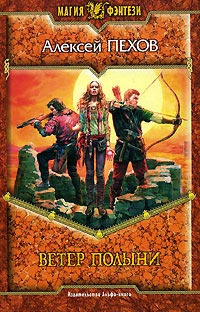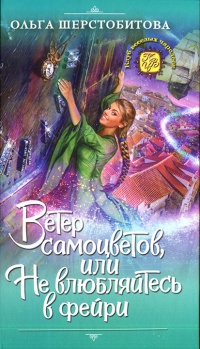поспешно забрался в повозку. Он тяжело, со стоном дышал и хотел одного: укрыться.
Снаружи раздался крик, и бык замычал и упал, сотрясая песок. Колесо наткнулось на него, повозка взвизгнула, дёрнулась и застыла криво.
— Получи же!..
Крик оборвался всхлипом. Тело ударилось о борт и упало, и пришёл мрак.
Люди бежали прочь, не разбирая дороги, кричали и падали. Зверь настигал их, одного за другим, и становилось всё тише, пока не остался лишь ветер, и тяжёлое дыхание быка, живого или умирающего, и стоны человека рядом. Он упал между мной и мальчиком, и теперь, выставив нож, лежал и ждал, скуля.
Тот, кого он боялся, двигался бесшумно. Лишь коротко затрещала ткань от удара когтистой лапы, повисла клоками, и порождение песков явилось нам: зверь чёрный, как сама тьма, с горящими глазами. По плечам его текла песчаная грива, клубилась, вспыхивая искрами, и хвост неслышно бил по бокам. Повозка ещё накренилась, и дерево затлело там, где он встал.
— Замри и молчи, — сказал я мальчику.
Я не знал, успел ли он услышать меня, потому что человек дёрнулся, отползая, и закричал:
— Уйди! Уйди, не тронь меня, не тронь! А-а-а!
Лапа ударила, с хрустом сминая рёбра. Бесполезный нож отлетел, ударившись о моё плечо. Нахлынула волна жара, в огне сверкнули клыки, и человек захлебнулся собственной кровью. Зверь бросил его тело прочь, играя, и прыгнул следом. Ещё донёсся звук, будто тонущий уходит под воду, — и всё стихло, но мрак не рассеялся.
— Замри и молчи, — повторил я.
Зверь вернулся. Он стоял, прислушиваясь, щурил глаза и раздувал ноздри. В приоткрытой пасти тлели угли.
Мальчик не пошевелился и не издал ни звука, когда порождение песков склонилось над ним. Дыхание его опаляло, глаза слепили, а в груди потрескивало вечно голодное пламя.
От повозки уже тянуло дымом, когда зверь решил, что наигрался. Фыркнув, он выпрыгнул, и тьма за миг сменилась светом. Навес зиял дырами, и кровь окрасила ткань и дерево.
Мальчик лежал недвижно, и когда я счёл его мёртвым от страха, он поднял голову, осматриваясь, и пополз к ножу. Я наблюдал молча.
Он весь дрожал, и нож в его пальцах трясся и выпадал, со стуком ударяясь о доски, пока не повернулся как надо. Когда лопнули последние волокна, мальчик первым делом сорвал тряпку с лица. Он сидел, пытаясь стереть с рук свою и чужую кровь, и дышал так, как дышат, когда плачут, но не плакал.
Он выбрался наружу и сразу упал, ноги его не держали. Я слышал, как он заговорил с быком:
— Ты живой! Только мы остались. Ты живой! Не бойся.
Он гладил быка, глотая слёзы, и бык, напуганный, мычал негромко, будто стонал — жаловался по-своему.
— Я дам тебе воды, — сказал мальчик. — Подожди. Подожди, руки трясутся.
Он рассмеялся коротко, и я услышал бульканье меха и звонкий голос воды, льющейся в кожаное ведро. Бык потянулся, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, но много не получил. Остатком мальчик залил тлеющие доски, косо глядя на меня, отошёл и вскрикнул.
— Помоги мне, — раздался хрип. Я с трудом узнал голос Хепури. — Помоги! Отвези меня к целителю. Без меня ты заплутаешь в песках… я укажу дорогу…
Мальчик не отвечал, и Хепури продолжил молить, натужно втягивая горячий воздух и тяжко выдыхая слова:
— Я дам тебе золота! Всё, что выручим… я дам. Помоги мне перевязать раны!
— Ты Нуру не пожалел, — сказал мальчик твёрдо. — Ты не пожалел нашу мать…
— Стой! Твои братья тоже решали, не я один!
— Ты и мою жизнь хотел отнять, чтобы я не донёс людям правду.
— Так велели твои братья… Но ты не убийца. И я нужен тебе… Перевяжи меня и возьми с собой. Как доберёмся до города, расскажешь всем правду, я не спорю… Помоги мне, Поно!
Стало тихо. Потом я услышал шаги и короткий хриплый мужской смех.
— Вот так, я знал. Ты хороший, добрый…
Слова прервались мучительным стоном.
— Молчи! Молчи! — зашипел мальчик. — Не смей! Молчи! Ты хитришь, знаешь, что Шаба нас догонит! Молчи, умолкни уже!.. Ты бы меня не пожалел!..
Он кричал и бил, и не мог уняться, хотя я давно уже слышал только его голос. Наконец он поднялся, шаткой тенью мелькнул в дыре навеса и забрался в повозку. Бросив окровавленный нож на полу, мальчик сел рядом.
Он смотрел перед собой, но видел не меня. Потом закрыл глаза, но тут же раскрыл, тряхнув головой: так было ещё хуже. Я чуял, внутри у него появилась трещина.
Бывает, трещины зарастают, бывает, нет. Одни заполняются любовью и терпением, другие виной, третьи — той особой пустотой, в которой легко набирают силу дурные всходы, растут цепкой лозой, раздвигая края. Трещина растёт, а человек осыпается. Я видел людей, от которых ничего не осталось.
Мальчик ударил меня кулаком в плечо, ещё и ещё, сдирая кожу.
— Ты живой? — зло спросил он. — Это ты говорил со мной? Ответь!
Подождав, он продолжил:
— Братья сказали, Нуру нашла тебя давно. Врут! Она бы со мной поделилась. Она не могла промолчать!
Он подумал ещё и добавил с обидой:
— Она говорила, уходит к другу, но никогда не давала проследить за собой. У нас не было тайн — ни одной, слышишь? — только это! Я думал, она влюблена. Ещё выгораживал её, если кто искал. Думал, с кем же она ходит… А ты… Вот так друг! Позволил её продать, ты, кусок камня!
Пошарив вокруг себя, мальчик нашёл тряпку, которой ему затыкали рот, и показал мне — срезанный подол, запятнанный кровью.
— Вот, — сказал он. — То, что с ней случилось, твоя вина. Ты камень, а я мужчина. Пусть Нуру старше, но она женщина, а значит, слаба и глупа, и я в ответе за неё. Я отвезу тебя в Сердце Земель и продам, чтобы её выкупить. На большее ты не годишься.
Разгневанный, преданный братьями и теперь сестрой, он кривил губы, над которыми едва проступил тёмный пушок, и быть может, сокрытая тайна уязвила его больше, чем смертный приговор.
Оставив меня, он спрыгнул с телеги и принялся горстями бросать песок на доски, залитые кровью. Я слышал, как он, тяжело дыша, оттаскивал тела, как выпрягал мёртвого быка и упрашивал живого идти, покрикивая на него и хлопая по боку. Отведя повозку в сторону, мальчик, как мог, починил навес, взяв для того белую ткань, которой мужчины обматывали головы. Потом он вернулся ко мне.
— Ты помог мне спастись, — хмуря брови, сказал он, — и я благодарен. Но я тебя всё равно