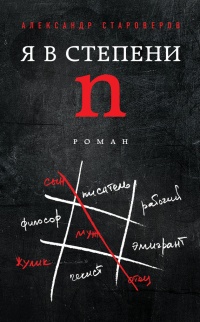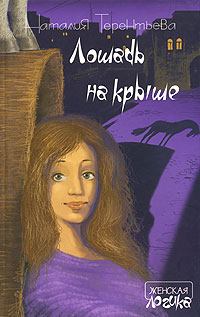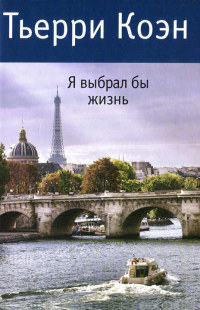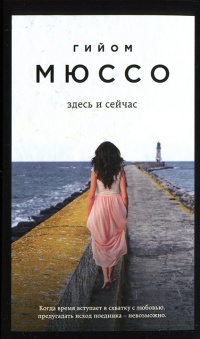в большой город.
И сидит Берл дома, ждет: что сотворит его "святое имя".
Наступает праздник кущей. Открывается дверь. Ага, дождался: входит в дом посланец от пана — зовут шубу шить.
Хорошо! Владыка мира позаботился!
И вот Берл отправляется и прибывает в замок к пану. Ему отводят отдельную комнатку, дают сукно и мех.
— Видели бы вы, рабби, какие лисьи шкурки! Лисьи из лисьих…
— Ведь уже время приступить к "Кол-нидрей"! — торопит его рабби Леви-Ицхок. — Словом, ты сделал свое дело как следует. Что же было дальше?
— Пустяки! Три шкурки остались.
— И ты их взял себе?
— Это было не так легко, рабби, как говорится. Когда выходишь из замка, у ограды стоит страж. Если у него явится подозрение, то он обыщет тебя с ног до головы, даже сапоги снимет. И если бы, не дай бог, шкурки у меня нашли, то… у пана и собаки и гонцы есть…
— Ну, и как ты поступил?
— Но ведь я Берл-портной! Пошел на кухню, попросил хлебец с собой.
Рабби Леви-Ицхок прерывает:
— Как, хлеб иноверцев?
— Не для еды, рабби, боже упаси! Мне дали хлеб, большущий хлеб. Вернулся я обратно в дом, разрезал его и вынул весь мякиш. Мякиш я долго мял руками, пока он не пропитался потом, и бросил псу, который сторожил у порога. Собака любит человеческий пот. А три шкурки я сунул в пустой хлеб. И иду.
У ограды:
— Ты что там, еврейчик, несешь подмышкой?
Показываю — хлеб.
Прошло благополучно. А чуть подальше, я давай бежать. И не иду дорогой, а все жнивьем, жнивьем. С поля на поле: полем путь короче. Вот так иду, приплясываю: есть чем праздничек справить! Без подачек от общины, без долгов. Шкурки дорогие…
И вдруг чувствую — земля дрожит. Догадываюсь: всадник мчится. За мной погоня! Стынет кровь в жилах. Наверное, подсчитали шкурки. Бежать — глупо: ведь всадник, панский конь. Бросаю первым делом хлеб свой в жнивье. Но делаю примету. Хорошую примету. И останавливаюсь. Слышу — окликают:
— Гей, Берко! Берко!
Да, это он — панский казачок. Узнаю его голосок. Внутри, рабби, все дрожит во мне. Душа — в пятки ушла. Но Берл-портной не теряется, идет навстречу, будто ни в чем не бывало.
Оказывается, напрасный страх!
Забыл вешалку пришить, вот и послали за мной гонца. И он уж тащит меня на коня. Поворачивает, скачем…
В душе благодарю бога за избавление. Пришиваю вешалку и пускаюсь в обратный путь. Прихожу к примете — нет хлеба.
Жатва давно закончена. Кругом ни живой души. Никакая птица в мире такой тяжести не поднимет. Догадываюсь, кто это сделал…
— Кто?
— Он! — отвечает Берл-портной и указывает пальцем вверх, — владыка мира. Это дело его рук, рабби! И знаю, почему. Он, великий бог, не желает, чтоб его раб, чтобы я, его Берл-портной, брал остатки…
— Ну, конечно, — замечает мягко рабби Леви-Ицхок, — по закону…
— Закон… Какой закон! — возражает Берл, — он знает, что обычай сильней закона. И не я обычай этот создал; он существует испокон века. И опять, — рассуждает Берл, — если он, владыка мира, такой великий, гордый пан и не желает, чтоб беднейший из его слуг, его раб Берл-портной, который служит ему, разрешал себе брать остатки, так пусть дает заработок. Пусть он, как пан, дает мне самое насущное.
Ни того, ни другого он, однако, не хочет.
— Раз так, — говорит Берл, — то я не хочу больше служить владыке мира! Я, — говорит, — дал себе зарок. Довольно!
Взревели тут прихожане по-медвежьи. Машут на него руками, надвигаются на него.
Но рабби Леви-Ицхок произносит веско:
— Чтобы тихо стало!
Прихожане утихают. И рабби Леви-Ицхок спрашивает Берла задушевно:
— А дальше что?
— Да ничего.
И рассказывает:
— Прихожу домой, не умываюсь. Ем, не совершая омовенья рук. Жена пытается протестовать, — пощечина! Ложусь спать без молитвы. Уста хотят произносить молитву, — сжимаю их, стискиваю зубы. Утром ни омовенья рук, ни благодарения всевышнему, ни молитвенного облачения! — "Дай есть!" Жена убежала из дому. В деревню убежала, к своему отцу-арендатору. Что ж, пусть без жены! Мне это даже доставляет удовольствие. Я-то ведь, — я! Я Берл-портной. Она слабая женщина, пусть не становится мне на пути. И я делаю свое. Никаких обрядов! Иногда, случается, выпью рюмку, в праздник — не произношу благословенья над вином, нет! В "праздник торы" я, как Мордухай, когда народу угрожало бедствие, хватаю мешок и одеваю на голову. Назло! Наступают дни покаянья, становится как-то не по себе… Синагогальный служка на рассвете стучит, будит к богослужению. Сердце сильнее бьется, так и тянет, тянет… Но ведь я — Берл-портной, слово держать умею. Укрываюсь с головой. Выдерживаю! Чтоб глаза не видели… Наступает Новый год — я ни с места. Наступает время трубных звуков — затыкаю уши ватой… Сердце разрывается, жалко себя, рабби… И мне стыдно перед самим собой. Хожу неумытый, в доме грязь. Обломок зеркальца висит, я поворачиваю его к стене, не хочу своей рожи видеть… Слышу, народ идет к реке, чтоб отряхнуть с себя грехи и утопить их…
Берл на минуту умолкает, но тотчас, подскочив, кричит:
— Но прав я, рабби! Сдаваться так, без ничего, не стану!
Рабби Леви-Ицхок, подумав немного, спрашивает:
— Чего же ты хочешь, Берл-портной? Тебе нужен заработок?
Берл с обидой:
— Заработок — плевое дело! Позаботился бы он раньше о пропитании. Пропитание полагается всем — и птице в воздухе, и червяку на земле. Пропитание — дело обычное. Теперь Берл требует большего!
— Скажи, Береле, чего же тебе?..
Подумав, Берл говорит:
— Не правда ли, рабби, в судный день прощаются лишь те грехи, которые совершены человеком перед богом?
— Правда.
— А грехи, совершенные перед людьми, нет?
— Нет.
Тогда Берл-портной вытягивается во весь рост, как струна, и говорит решительно и во всеуслышание:
— Я, Берл-портной, не подчинюсь и не вернусь к богослуженью до тех пор, пока владыка мира, в угоду мне, не простит и эти грехи! Прав я, рабби?
— Прав! — отвечает рабби Леви-Ицхок. — И стой твердо на своем! Придется тебе уступить…
И рабби Леви-Ицхок оборачивается к амвону, смотрит кверху, прислушивается с минуту и возвещает:
— Ты, Берл, победил! Ступай за молитвенным облаченьем!
Опущенные глаза
(Из народных сказаний)
1915
Перевод с еврейского Б. Плавник
1
Давным-давно это было. В деревне под Прагой жил в старину еврей, некий Ехиел-Михл; держал он здесь корчму в аренде.
А помещик, владевший деревней, был не просто помещик, но знаменитый граф. И жил Ехиел-Михл у этого графа, что называется, припеваючи, чувствовал себя тут