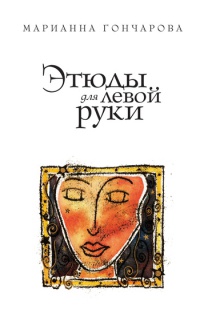Вернув стопку на стол, я обнаружил, что мой собутыльник вступил в ожесточенную схватку со своей хваленой рыбой. Краснея от усердия, он яростно шевелил губами и зубами, пытаясь перекусить белый ломтик пополам, но что-то, может быть какая-то прожилка, мешала ему. Устав от борьбы, он, продолжая держать часть рыбы во рту, снял неподдающийся край с вилки пальцами, но вместо того, чтобы отправить его ими же в рот, стал подхватывать край кончиком языка. Скользкая рыба легко уходила от него и тогда, рассвирепев, он просто втянул ее в себя, издав при этом совершенно душераздирающий звук, в котором смешались клекот, шипение и свист. Он явно дошел до той степени отчаяния, когда было не до приличий. Усилие было таким мощным, что весь кусок улетел в дыхательное горло, вызвав взрыв кашля. Вцепившись огромными пальцами в край стола, он стал кашлять ритмично и оглушительно, иногда даже перекрывая рев мотора Макаревича и встреченные им повороты, взлеты и пролеты, которым просто не было никакого конца и края. Что мне понравилось больше всего, так это, что подруга личной жизни Михаила Михайловича в продолжении всего этого драматического эпизода с возможным летальным исходом, не шелохнувшись, продолжала смотреть на танцующих. Это было ужасно. Тут тебе была и демонстрация полного бесчувствия к страданиям ближнего, и совершенно безжалостный перевод дефицитного товара, которым надо было наслаждаться, а не давиться.
Я, конечно, мог постучать ему по спинке ладошкой, но для его спинки, лучше подошла бы рельса. Или шпала. Как я уже говорил, он был мужчина крупный от природы и льгот профессии.
Михаил Михайлович, наконец, затих, перевел дыхание, утер салфеткой пот с побагровевшего лба и, заметив, что он тут чуть лыжи не откинул, ушел в дом. Слава те Господи, оставив меня наедине с моей тарелкой, холодец в которой превратился в густой бульон. Натюрморт был оживлен хреном, который пустил малиновый корешок через студенистую серую массу и проник в рыбу. Я взял еще один огурчик и налил еще одну стопочку. Я был на подходе к тем самым ста граммам, которые делали меня своим в любой компании. Когда я собирался уже опрокинуть ее, хозяйка сказала:
– Митя, налейте мне тоже, если не сложно.
Я исправно выполнил просьбу.
– Не страшно, что я вас Митей называю? – спросила она. – Такое имя милое, старомодное. Дмитрий мне кажется официальным.
– Совершенно не страшно.
Мы чокнулись и выпили. Вместо закуски она на секунду приложила изящный нос к черному кожаному ремешку золотых часиков и коротко, едва заметно, потянула воздух. Типа закусила. Я бы с удовольствием тоже понюхал ее запястье, но довольствовался огурчиком, который теперь показался мне теплым и вялым. Осетрину есть не хотелось. Точнее говоря, было страшно.
Музыка тем временем сменилась на почти человеческую. Это был Supermax, который воспринимался лучше Макаревича, невзирая на десятилетнюю давность.
I’m a love machine it town
The best you can get
Fifty miles around!
– Ты чего, лопать сюда пришел?!
Подошедшая к столу Татьяна взяла меня за руку и потащила к танцующим. Оказавшись среди них, я отпрыгал подальше от взгляда хозяйки дачи и, пристроившись в тылу пестрого хореографического коллектива, отдался, как говорится, ритму. Все мое танцевальное мастерство сводится к тому, что я часто и высоко подпрыгиваю, стараясь по возможности попадать в ритм и иногда вращаясь в воздухе наподобие дервиша. Рукам я даю полную свободу и мышцам лица тоже, из-за чего человек, незнакомый с моей исполнительской техникой, может заподозрить меня в идиотии. Но предусмотрительно принятые на грудь сто грамм позволяют мне не обижаться на критиков. Главное, следить, чтобы в танце я держался подальше от мебели, бытовой техники, ваз и других хрупких предметов интерьера. На этот раз, как, впрочем, и обычно, я пил и потом танцевал легко и с удовольствием, ощущая благодаря водке и музыке ту свободу, в которой мой организм так нуждался в последние недели.
И так я пропрыгал всю песню про Love Machine in Town, а затем стал прыгать под песню про наркомана, в смысле растамана, Камилло, курящего косяк на своей Ямайке. По ходу дела я наблюдал за другими танцующими. Среди них было штуки три парня. Один сразу привлекал внимание интенсивным загаром и такой короткой стрижкой, словно он только что вышел из парикмахерской. Он был в ослепительно белой рубашке с подкатанными рукавами, очень облегающих голубых левисах и желтых остроносых туфлях из сертификатного. Он все время держался возле фигуристой девушки, которая танцевала босиком, на цыпочках, очень плавно и сдержанно двигая узкими бедрами и держа руки высоко поднятыми, что помогало ей демонстрировать изумительную грудь с проступающими из-под красной майки ее остриями. На майке было написано блестками I’m all your’s. В мягкий дачный воздух Малороссии пер танком грубый немецкий голос:
Rastaman Camillo
Life make him feel low.
So he sits, and he starts to smoke
Says that life is not a joke.
Ого-го-ого-го!
Ай-яй, ай-яй!
Глаза у нее были закрыты сиреневыми веками с блестками. Парень в белой рубашке, широко расставив ноги и полуприсев, двигал широкими плечами, словно хотел принять бедра танцовщицы в свои объятия. Я бы тоже принял их в свои объятия. Тем более она, судя по надписи, не возражала бы. Бог мой, сколько я хотел принять народу в свои объятия, даже подумать страшно!
Насмотревшись на замечательную грудь, я вернулся к столу, за которым теперь сидели Наташа и небольшая блондинка в военной рубашке из очень тонкого хлопка. Она была, кажется, соученицей Наташиной сестры. Загорелый тоже подсел к столу, устроившись рядом с Ниной Ефремовной. Сделал он это довольно уверенно, и я еще подумал, что он, наверное, по отчеству ее не зовет. В отвороте белой ткани видна была увесистая золотая цепь.
Напротив девушек сидел Михаил Михайлович.
– Нет, я этого не понимаю, как ты, советский человек, – он обращался к блондиночке, – можешь носить рубашку с американскими флагами?
– А что тут плохого, Михал Михайлович?
– Как что?! Американцы – наши враги!
– Чего это они наши враги? – блондиночка пожимала плечами. – Мы же с ними не воюем. Мой папа в Америку плавал. Судно их в Нью-Йорке стояло. И другие наши заходят. Круизы там делают по Карибскому морю. А эту рубашку он, кстати, в Турции купил. Она и не американская вовсе. И она вообще не настоящая военная.
– Да какая разница, где он ее купил?! – кипятился Михаил Михайлович. – Если на ней написано ю-са арми?
– Так сейчас модно, Михал Михайлыч, – под его натиском девушка порозовела. – Вон полная толкучка таких рубашек. Полгорода в них ходит. Это модно.
– Модно! Вот то-то и оно! – Михаил Михайлович сменил возмущение в голосе на тон доброго наставника. – Ты что думаешь, мода вот так вот ниоткуда берется? Ее разрабатывают. Для таких вот как ты, молодых и наивных. И направляют в нужном направлении.