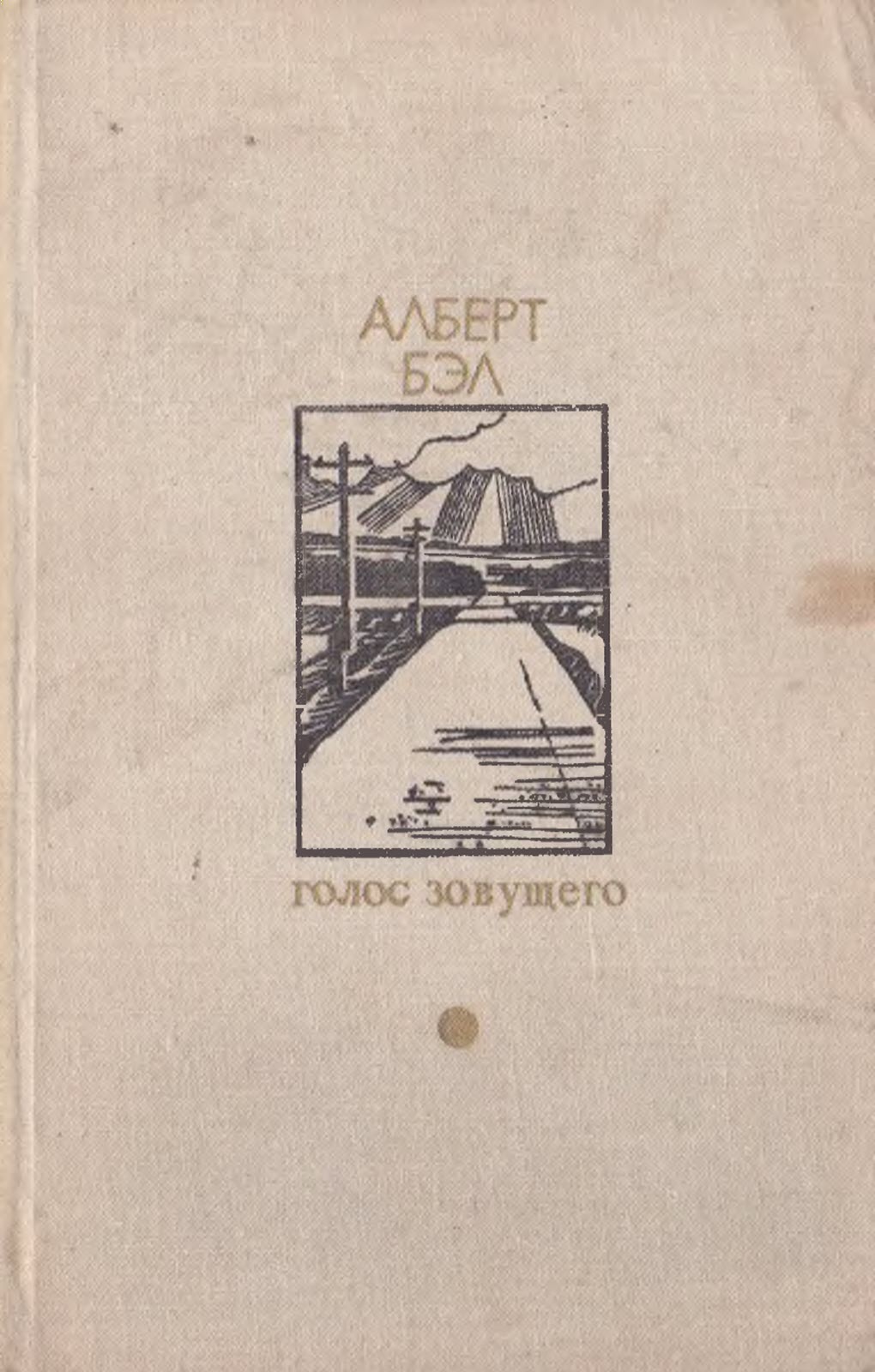него были, промыл остатками чая из фляги рваную рану на колене, плотно забинтовал ногу и сразу же уснул.
Сколько часов спал, Кручинин сказать не мог. Пожалуй, не меньше суток, потому что, когда проснулся, так же, как и накануне, занималась заря. Было холодно, хотелось есть и пить. Пополз в глубь леса по кочкам, усыпанным брусникой и гоноболью, среди которых прятались подосиновики. Утолив жажду несколькими пригоршнями ягод, он набрал небольших крепких грибков, попробовал есть их сырыми; это была никудышная еда. Надо бы забираться еще дальше в чащу, развести там костерок из самых сухих сучьев, чтобы давали как можно меньше дыму, и испечь собранные грибы на огне. Так он и сделал. Затем, еще поев ягод на закуску, ощутил некоторый прилив сил и снова принялся за определение того, где же он находится. По солнцу получалось, что уполз он почти в противоположную сторону от своих позиций влево от Ивановского, и теперь ему придется проделать путь обратно. Захотелось осмотреть с опушки окружающую местность чтобы наметить кратчайшую дорогу. Жаль только, что никак не влезть на дерево. А еще больше пожалел он, что потерял полевую сумку а картами и бинокль. От сумки остались одни обрывки ремешков, на поясе от бинокля и того не осталось — пропал вместе с футляром.
Огибая поросшую папоротником моховую яму, Кручинин дернулся от неожиданности: под перистыми листьями он увидел лицо человека. Схватился за кобуру, но пистолета в ней не было — выронил, должно быть, когда оглушило. Да пистолет был бы и ни к чему сейчас: человек в папоротнике лежал, закрыв глаза, и не шевелился, возможно, что это уже мертвец.
Кручинин подполз к нему. На петлицах гимнастерки — три кубика, на рукавах — звезды: политрук. Вынул из его кобуры пистолет и переложил к себе. Осмотрел человека, потрогал руками. Нет, не мертв. Видимо, он в горячке. От гноившейся на икре раны раздуло всю ногу. Кручинин вывернул карманы гимнастерки раненого, нашел: партбилет и командирское удостоверение. Документы свидетельствовали, что это политрук Загурин, комиссар батальона ВНОС. Одно оставалось неизвестным: как же он сюда попал, в тыл к немцам?
Кручинин прежде всего решил промыть и перевязать рану политруку. Он встряхнул его фляжку — булькает. Осторожно отвернул пробку, хлебнул глоток и поперхнулся, не в состоянии перевести дух. Так сидел минуту-другую, обливаясь слезами. Наконец охнул: «Спирт!»
Спирт редко бывает некстати. А тут он оказался кстати вдвойне. Во-первых, после второго хорошего, глотка по телу Кручинина пошла приятная теплота, и прибавилось сил. Во-вторых, спирт очищает раны.
Сделав политруку перевязку старым бинтом, смоченным в спирте, Кручинен набрал затем полную фуражку ягод, раздавил часть из них в стаканчике от фляжки и принялся вливать сок в рот Загурипу. Загурин давился, кашлял, но глотал.
Вечером Кручинин снова поил раненого соком. И снова испек для себя грибы.
Наутро раненый заворочался, открыл глаза, сел, но опять повалился. Заметив Кручинина, он с криком «Эй, кто тут?» стал шарить в расстегнутой кобуре.
— Свой, — успокоил его обрадованный Кручинин и сел рядом.
Разговорились. У комиссара нашелся табак, принялись курить и раздумывать.
Выздоровление Загурина пошло быстро. На третий день он уже сам собирал ягоды и грибы. Он не ползал, как Кручинин, а поднялся на ноги, охал, хромал, кусал губы от боли, но все-таки ходил. На третий день он стал помогать и Кручинину становиться на ноги. По временам оба слышали недалекий шум боя, понимающе глядели друг другу в глаза, и однажды, когда Кручинин уже мог мало-мальски ходить, Загурин сказал:
— Надо пробиваться к своим. Так долго не проживешь.
По карте, которая была у Загурина, они разработали маршрут я с наступлением сумерек пошли. Под утро пересекли можжевельник, в котором контузило Кручинина, и подошли к лесу — первоначальному району расположения дивизии. В лесу было тихо.
— Где-то здесь наши, — сказал Кручинин. — Как бы только не подстрелили.
Причина тишины вскоре выяснилась: окопы были пусты, дивизия ушла. Куда? Это были дни, когда ополченцы сами наступали, вели бои против Юшек. Но Кручинин, разумеется, этого не знал. Оба решили, что дивизия отошла от Вейно, что, возможно, даже и Вейно в руках немцев. Надо было прорываться вправо, чтобы обогнуть Вейно и выйти на шоссе к Ленинграду где-нибудь возле Оборья. Это значило — идти путем, который Загурин наметил когда-то бойцам четырнадцатого поста.
3
Начались многодневные блуждания по лесам. Чтобы сократить путь, шли на гул артиллерийской канонады. Но этот ориентир был слишком непостоянен стрельба слышалась то слева, то справа, то позади.
К концу первой недели прибрели в крошечную — домов в десять — лесную деревушку, стоявшую в такой глуши, что ни наши войска, ни немцы ею не интересовались. На картах она была помечена как «сарай». Деревушка стояла пустая: узнав о приближения немецких войск, жители ее собрали свой скарб и ушли; одни спрятались в окрестных лесах, понастроив землянок, другие махнули прямо в Ленинград.
Там, в этой заброшенной деревушке, Кручинин разболелся и слег. В деревне остались огороды, засаженные картошкой, огурцами, луком, сады с яблоками, пасеки с медом; на пруду плескались гуси и утки. Загурин принялся хозяйничать. Теперь он кормил Кручинина. Но, несмотря на обильные деревенские припасы, тот поправлялся плохо. Загурин ежедневно ставил новый диагноз: то воспаление легких, то паратиф, а заметив красное пятнышко на груди больного, решил, что у того и скарлатина.
— Очень просто, бывает она и у взрослых, — загорячился он, заметив улыбку Кручинина. — У меня брат заболел скарлатиной в восемнадцать лет.
Кручинин искренне смеялся:
— И почему ты в медицинский не пошел? Был бы не лесным бродягой, а врачом. Ездил бы сейчас с медсанбатом.
Однажды, тихим августовским вечером, Загурин вывел и усадил Кручинина на завалинку. Еле слышный ветерок тянул с лугов травяными запахами, ближний лес отдавал смолой и хвоей. Дышалось легко. Покой и мир спустились на деревню; наверно так бывало в лесных раскольничьих скитах.
И друзья не в первый раз заговорили о Ленинграде.
— Ты где жил? — спросил Кручинин.
— На Кировском, за площадью Льва Толстого.
— А я на Московском шоссе. Туда, знаешь, за «Электросилу».
— Семья у тебя в Ленинграде?
— В Ленинграде. Не захотели эвакуироваться.
Говорили о городе, о его красоте, о любимых местах, о женах о детях. Каждому хотелось рассказать о сокровенном, поделиться думами. Загурин сказал:
— Завидую тебе, ты командуешь ротой. А я прямо-таки рвусь на это дело, да не отпускают с политработы. Я же строевой лейтенант.
Кручинин открыл было рот, чтобы ответить, но в лесу послышался шум моторов. И