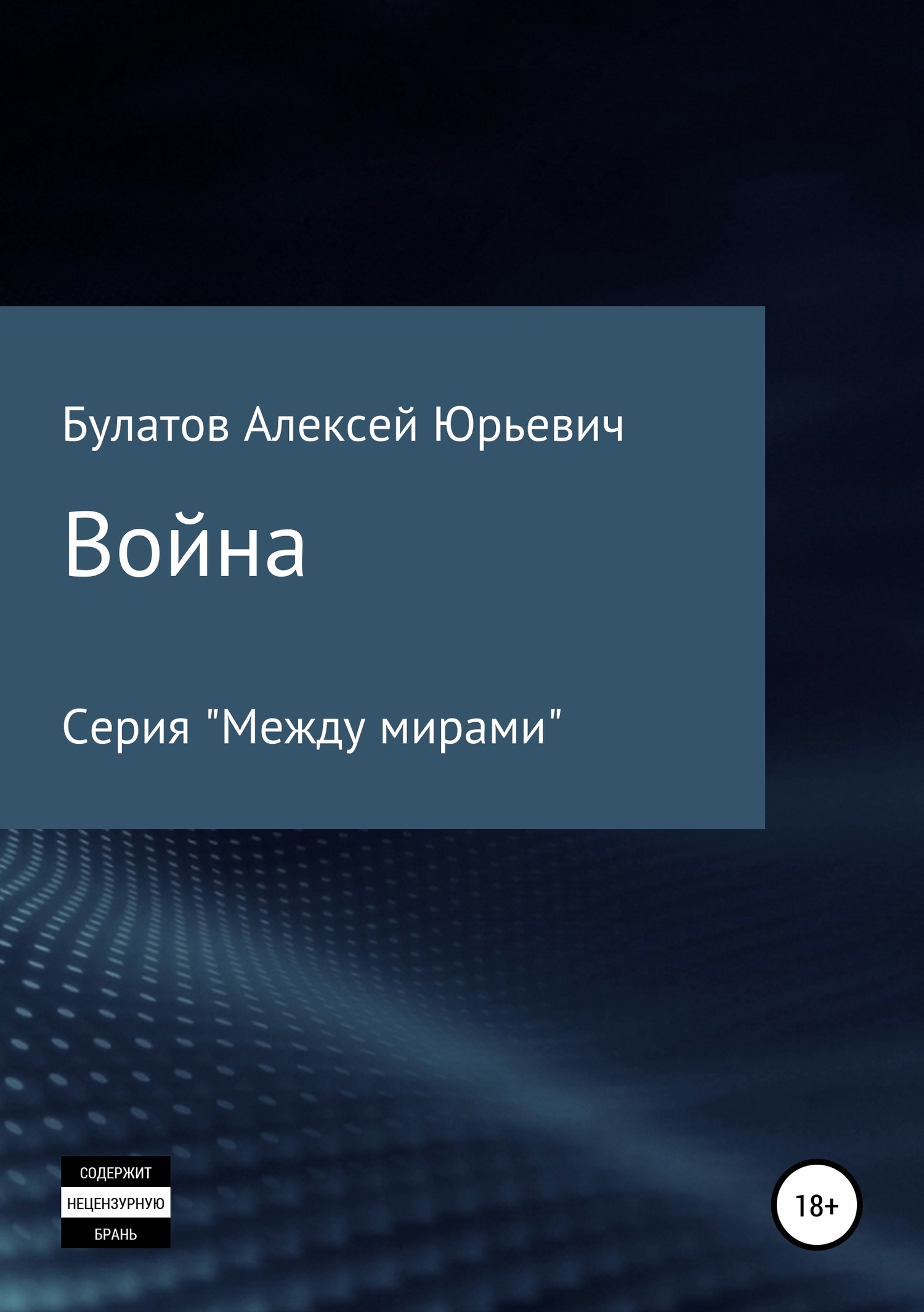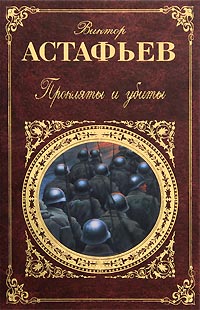избавился от русского одеяния деда Матюхи.
– Говори короче, Чатхо! Если вы опасаетесь мороза, то и не глушите двигателей!
– Как же не глушить, господин лейтенант? У нашего «хорьха» – половина бака, у полуторки – и того меньше. Русская машина жрёт топливо галлонами! Если не глушить двигатели, то к утру закончится горючее, и тогда уж никакой надежды… – Чатхо сам стрекотал, как хорошо отрегулированный двигатель, питаемый из полного бензобака.
Девушка, замерев, прислушивалась к словам водителя и, судя по выражению глаз, не понимала ни слова. Нет, венгерского языка она точно не знает.
– Вы уже приняли какое-то решение? – спросил Дани.
– Мы ждём приказа. Вашего приказа, господин лейтенант!
– Верно ли я понимаю: если двигатель глушить надолго, то на таком морозе его трудно будет завести, так?
– Так точно!
– Тогда предлагаю глушить двигатели на непродолжительное время, чтобы они не успевали остывать. Тогда появится шанс сохранить горючее до утра и у нас появится возможность добраться, наконец, до Семидесятского.
– Придётся установить круглосуточное дежурство, господин лейтенант!
– Действуйте, Чатхо! Вы дежурите первым, а остальное пусть решит капрал. Минута, Чатхо! Шаймоши тоже поставьте в очередь. Пусть дежурит наравне с другими. На войне как на войне!
* * *
– Ну вот! Мы спасены! – обрадовался Шаймоши. – Крыша над головой. Печь горячая. Еда!! Эй, женщина, неси бадью с водой! Господину лейтенанту умыться. Нет, тряпья твоего не надо. После того как мы выбрались из завшивленного Воронежа, пользуемся только своим…
Русская девица молча уставилась на Шаймоши. Бедняжка не понимала ни единого слова. К тому же она, по-видимому, так устала, что вряд ли способна сейчас понимать даже родную речь. А Шаймоши изъяснялся на грубом, деревенском жаргоне, который не всякому коренному будайцу вполне понятен.
– Она не понимает тебя, – проговорил их белобородый спаситель. – Лучше оставить машины перед домом.
– Микулиш… дьедь мозорь… – оскалился Шаймоши.
– Сам ты дед мороз! – фыркнул белобородый.
Дани осмотрелся. А вот и пленник! Всё ещё жив, лежит на лавке под окном, но не двигается и дышит шумно. Судя по всему, у него жар.
– Клоповник! Мерзкая дыра! – фыркал Шаймоши. – Хоть бы ты помыла пол, девушка!
Шаймоши суетился, поминутно выскакивая на мороз. В сенях было темно, но в подслеповатое оконце всё ещё светили фары обоих автомобилей. Иногда размытые непрерывно падающим снегом лучи пересекала быстрая тень: это Чатхо заступил на вахту. Металлическому рокоту двигателей аккомпанировал тоскливый, поднимающийся до самых высоких нот вой пурги. Дани первое время пытался разбить слышимые звуки на такты и быстро сбился. Он всё ещё мёрз и уже отчаянно жалел об оставленной в сенях, пропахшей конским потом бурке. Не надеть ли снова русскую шинель? Пожалуй, не стоит. Слишком много русского вокруг, а всё русское сулит опасность. Даже неодушевлённые предметы – пропахшая клопами одежда, неопрятная утварь на столе. Всё! Время от времени что-то шуршало между потолочными досками и стропилами кровли – там гуляли сквозняки и тараканы. А может быть, именно там обитает то странное, неизъяснимо опасное существо, русское зло, которое Милана именовала Лихом? Поначалу от глубокого тепла русской печи его повело в сон. Но провести ночь за печью, в окружении низших чинов и тараканов, казалось совершенно немыслимым. Один светец – на столе, другой – на припечке, под образами яркий, розоватый огонёк лампады – всё в совокупности давало возможность рассмотреть убогую обстановку жилища пастуха. В паузах между шумными припадками вьюжного буйства за печью шелестели тараканы. Лишь звуки уличного ненастья могли заглушить этот неумолчный шелест. Стесняясь его взглядов, девушка совсем по-крестьянски прятала лицо за замызганным рукавом. Тёрла им лоб и щеки, от чего те становились ещё более чумазыми. Ответные её взгляды были наполнены робким ожиданием. Чего? Ах, какая же она ещё молоденькая! Пожалуй, лет на двадцать моложе самого Дани. Руки обветрены, нос хлюпает, но она может стать настоящей красавицей, если выживет.
Старинная, железная кровать в облезлыми «шишечками» также не внушала доверия, так как была завалена нечистым тряпьём. Дани и раньше доводилось видеть такие лежбища в русских избах – среди линялых лоскутных одеял и выпревших подушек можно обнаружить всё что угодно, в том числе и крысиное гнездо. Не хотелось садиться и к замызганному столу. Бегая взад и вперёд от печи к окованному, старинному сундуку и обратно, Шаймоши сварливо сетовал на нечистоту хозяйской утвари. Ужинали отдельно от русских, на сундуке, который Шаймоши застелил серыми, пахнущими свинцовой краской листами «Фёлькишер бео́бахтер».
Дани так и не снял ни башлыка, ни френча. Шаймоши лишь разул его, растёр ноги и обмотал их найденным в полуторке старым одеялом. После ужина трое товарищей Дани, сам Шаймоши, водитель полуторки и сопровождавший его капрал, забрались за печь. Скоро одному из них предстояло сменить Чатхо на посту, возле машин.
– Sie haben Stiefel niedergelegt Eisen. In unserem Klima kann nicht tragen diese Schuhe. Brauchen Stiefel[8], – видно девушка не так проста, раз решила обратиться к нему по-немецки.
– Гы-ы-ы! – оживился дед Матюха. – Вот тебе и дочка колхозного пастуха! Да я так и кумекал, не из простых она.
– Разве ты её не знаешь? – спросил Дани.
– Откуда?!
– Ты же всех знал в Девице, так?
– То-то и оно!
– А эту – нет?
Дед Матюха уставил на него синий, внезапно сделавшийся совершенно пустым взгляд.
– Не помню, – после короткого молчания проговорил он. – Старый стал. Вот тут, – он ткнул себя толстым пальцем в висок. – Как вступит порой, так ничем эту хворь не выбить. Одно помню. Другое – нет. Контузило меня.
– Который же тебе годок, старинушка?
– Ваше благородие хорошо говорит на нашем языке, – дед Матюха раздвинул бороду в улыбке. – Много слов эдаких знает. «Старинушка»! Экий ты замысловатый, Ярый Мадьяр! А насчёт моих лет скажу так – в прошлом веке я родился, а в котором году… вот не упомню! Дай-ка мне руку!
Он приблизился к Дани и крепко ухватил его за культю.
– Чай, на погоду болит?
– Болит…
Матюха стоял совсем близко, смотрел туманно, молчал, словно прислушиваясь к токам крови в его искалеченной руке. А Дани дышал и не мог надышаться летними, пряными, травяными ароматами исходившими от его рубахи.
– Руку тебе даже Господь не вернёт, тем более что… Ну да ладно. Но я могу сделать так, что кисть навсегда перестанет болеть. Но вот слух…
– Слух? – Дани насторожился.
– Когда пурга выть устанет, ты послушай-ка тишину.
Словно повинуясь велению деда Матюхи, голос вьюги за стеной утих. Зато слышнее сделался тараканий шелест, да под полом что-то завозилось, загрохотало, будто кто-то опрокинул глиняный горшок. Раненый под окном громко застонал. Дани напряжённо прислушивался.