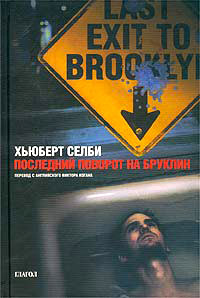Наконец начальник пожарной команды решился заговорить.
— Мистер Миддлтон не получал разрешения на проведение здесь митинга. Вы грубо нарушаете все до одного правила пожарной безопасности. Губернатор лично уполномочил меня сделать официальное заявление. Итак, до дальнейшего распоряжения ни один студент не будет допущен в здание студенческого союза. Понятно? Студентам запрещено входить в Рассел-Хаус. Даю вам пять минут, чтобы разойтись.
Толпа, лишившаяся вождя, зароптала, и тут я услышал совсем рядом голос Джордана:
— Эй ты, жиртрест! Если студенческий союз не для студентов, то, черт возьми, для кого он тогда?
— Арестуйте этого парня, — отвернувшись, приказал начальник пожарной команды, и его голос, усиленный микрофоном, разнесся по залу.
— Я студент! — заорал Джордан. — И нет такого закона, который запрещает студенту находиться в здании студенческого союза собственного колледжа. И я хочу знать: зачем вы, чертовы копы и национальные гвардейцы, сюда пришли? Мы сами построили этот дом и сами за него платим. Это наша собственность. Вы пришли в наш дом, арестовали, и избили наших друзей, и прервали митинг, и запугали нас в единственном месте, где мы чувствовали себя в безопасности. А потом еще имеете наглость заявлять, что мы не имеем права находиться в здании, на фасаде которого написано имя одного из нас.
— Для твоего же блага тебе лучше заткнуться, сынок, — посоветовал пожарный.
— Почему это я должен заткнуться? — не унимался Джордан. — Я здесь живу. Мои родители платят за мою учебу немалые деньги. Я сдал экзамены, чтобы попасть в этот колледж. Все мы усердно учились, чтобы поступить в университет. У вас нет никакого права выгонять нас отсюда.
— Вы создаете пожароопасную обстановку, — заявил пожарный. — В театре могут одновременно находиться не более двух тысяч человек.
— Тогда уберите отсюда копов и солдат. И вообще уберите отсюда ваши задницы. Тогда мы получим нужную цифру, — ответил Джордан.
Полицейские направились было к Джордану, но толпа сдвинулась и не дала им пройти. Пожарного сменил полковник, под началом которого были национальные гвардейцы.
— Послушайте, ребята, — начал полковник. Его лицо было пухлым, мягким и смахивало на гриб, и по всему было видно, что студентов полковник этот ненавидит лютой ненавистью. — У меня тут приказ. Приказ губернатора, предоставляющий мне чрезвычайные полномочия. Я только что наблюдал, как вы отказывались подчиниться приказу очистить помещение, отданному начальником пожарной команды. Лично я не верю в то, что толпу можно уговорить по-хорошему. Так что предлагаю вам, поганые хиппи, оторвать жопу от стула и убраться отсюда к чертовой матери.
Джордан снова заговорил, и чем в большую ярость впадала толпа, изменчивая, как лесной пожар, тем спокойнее он становился.
— Попрошу вас, полковник, принести извинения за «поганых хиппи» и за «жопу». Я хорошо знаю своих товарищей-студентов, и мне известно, как болезненно они реагируют на прозвища. Мы здесь отличаемся крайней чувствительностью, а вы оскорбили нас в лучших чувствах.
— Я отдал приказ разойтись, Бетси, или как там тебя зовут! — рявкнул полковник. — Извини, но по твоему виду сразу не разберешь, парень ты или девка.
— Полковник, — ответил Джордан, — почему бы нам с вами не устроить кулачный бой прямо на этой сцене? И тогда вы сразу поймете, парень я или нет.
Ответная речь полковника утонула в реве толпы.
— …мне бы хотелось напомнить этому сборищу уклонистов и так называемых пацифистов, что в Америке есть прекрасные молодые люди, которые сражаются и умирают во Вьетнаме прямо сейчас, во время нашего разговора, — заявил полковник. — Вы знаете, почему умирают эти молодые люди?
— Да, конечно знаем, — выкрикнул Джордан. — Они недостаточно богаты или удачливы, чтобы вступить, как вы, в вашу чертову Национальную гвардию и стать такими же бабами с ружьями, которыми вы нас окружили…
И снова по театру прокатился ропот, заглушив последние слова Джордана. Полковник сделал несколько безуспешных попыток навести порядок, но голос его был слабым, еле слышным.
— Наши мальчики умирают во Вьетнаме во имя дела, в которое верят, — продолжил Джордан. — И они заслужили нашу любовь и уважение. А теперь нам нужно остановить войну и вернуть их домой. Наши вооруженные силы сейчас на поле боя убивают врага, тогда как ваша несчастная Национальная гвардия, эти жалкие ссыкуны и слабаки со штыками наготове, собираются отсидеться здесь, делая вид, что выполняют свой долг и служат своей стране. Сами-то, небось, не отправились в джунгли охотиться на вьетконговцев! Вы зарядили свои ружья и явились в наш кампус охотиться на своих же американских братьев и сестер. Вчера в Огайо вы убили четверых из нас. Скольких сегодня вы намерены убить? Ответьте мне, национальные гвардейцы! Я хочу, чтобы хоть один сукин сын встал и сказал мне, что вы не самые большие уклонисты, которых когда-либо видела наша страна. Скажите, разве это было не самым великим днем в вашей жалкой жизни, когда к вам по почте пришел листок бумаги, на котором было написано, что вы уже никогда не подхватите малярию или триппер во Вьетнаме?!
— Вы призываете к бунту, юноша, — заявил полковник, когда шум утих.
— Кто? Студенты или Национальная гвардия? — поинтересовался Джордан.
На трибуне снова сменился оратор; место полковника занял гладкий, хорошо одетый молодой человек из администрации губернатора и с ходу приступил к делу:
— Если в Рассел-Хаусе через пять минут останется хоть один студент, он будет исключен из университета до конца семестра. Ему не позволят сдать экзамены и окончить курс вместе со всеми.
Зал огласился криками протеста и проклятиями, но все же толпа зашевелилась и двинулась к дверям, и, когда все перемещения и маневры закончились, в помещении осталось около пятисот студентов, приросших к своим местам. Я огляделся и немало удивился тому обстоятельству, что большинство из них были мне незнакомы, а еще тому, что я не заметил ни одного члена организации СДО.
Молодой человек на сцене продемонстрировал безупречный стиль лидера, не привыкшего зря болтать. Молодость придавала ему вид уверенного в себе фашистского идеолога. Ангельское лицо, отличный цвет кожи, благородные скулы делали его похожим на функционера, отвечающего за водопотребление, либо на человека, занимающегося расследованием этических нарушений профсоюзных деятелей. Все больше и больше студентов, опустив голову, пробирались к дверям, чтобы затем пулей выскочить оттуда.
Когда пять минут истекли, молодой человек, представившийся Кристофером Фишером, объявил, что оставшиеся в зале сто студентов — чьи глаза с ненавистью смотрели на этого губернаторского прихвостня, отгороженного от них защитной сеткой застегнутого на все пуговицы чувства собственной значимости, — исключены из университета.
— Почему я здесь? — простонал я. — Я сейчас должен был бы сидеть в своей комнате и готовиться к экзамену по теме «Викторианский роман».