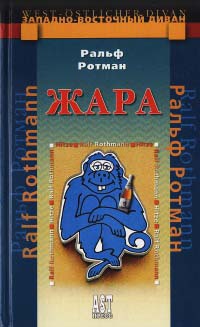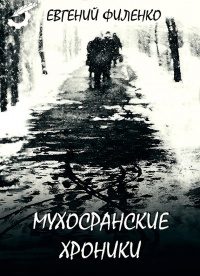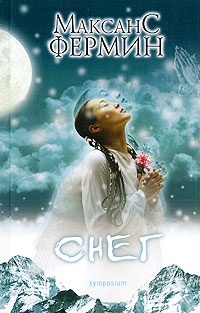– В пайке полкило осетрины, полкило белуги, сто грамм красной и сто грамм черной икры, курица, кусок мяса килограмма на полтора. Заметь, это на один день на одного человека. Стоит копейки.
Женя как раз разглядывала содержимое холодильника, когда Сева неслышно подкрался к ней сзади и сжал в объятиях.
– Ладно, потом поедим. Пойдем.
– Это уже который раз, невозможно так, Сева. – Женя попыталась высвободиться.
– А ты что, подсчеты ведешь? Что обозначает это недовольное выражение лица? Ты не рада? Другие на твоем месте были бы счастливы…
Сева осекся, вспомнив, что недавно по тому же самому поводу они поругались в пух и прах. Тогда они лежали рядом на диване и громко отдувались. Закурив и пуская колечки дыма изо рта, Сева мечтательно сказал:
– Представляю себе, как тебе сейчас завидуют твои подруги.
Женю подбросило как на пружинах.
– Мне? Завидуют мне? С чего вдруг? Если кому и завидуют, так это тебе, и не только все твои друзья, но и весь факультет! Что это ты возомнил о себе?
Она вскочила с кровати и принялась лихорадочно одеваться. Сева в состоянии посткоитального полузабытья попробовал было вначале отшутиться, но не тут-то было. Женя, меча в него молнии негодования, уже натягивала сапоги.
– Ты с ума сошла?! Да что случилось-то? Что я такого сказал? Никуда ты не пойдешь!
Подскочив к Жене, он начал рвать у нее из рук второй, еще не надетый сапог, она не отпускала, но в результате победа осталась за Севой. Выдрав сапог, он покачнулся, потерял равновесие и сел голой задницей на пол. Сева не выдержал и громко рассмеялся, но быстро осекся, потому что Женя бросила в него штанами и пряжка ремня ударила ему по причинному месту.
– Ведьма! – диким голосом заревел Сева.
С сапогом в руке он бросился к окну, распахнул раму и выбросил сапог вниз. Так Женя и ушла в одном сапоге, шарахнув изо всех сил дверью на прощание.
Сейчас Сева испугался своих слов, отступил от Жени на шаг и с виноватым видом посмотрел на нее, ожидая бури. Но она решила на этот раз не раздувать историю и занялась приготовлением завтрака. Вначале надо было сварить кофе, Женя не могла начать день без нескольких чашек. У Софы нашлись джезва и кофемолка. Кофе арабику, свой любимый сорт, Женя покупала сама в чайном магазине на Мясницкой, куда она обычно ходила с папой, страстным кофеманом. Сколько она себя помнила, ее день всегда начинался с запаха свежемолотого кофе. Папа был жаворонком, всегда вставал раньше всех, и к моменту, когда просыпалась мама, кофе уже был прожарен и помолот. Каждое новое утро на Пушкинской, обжаривая кофейные зерна на сковородке, Женя осознавала, что началась ее новая самостоятельная жизнь, и в ней вновь вспыхивали одновременно обида и чувство вины из-за ссоры с отцом.
Поздней весной, вечером Семен Григорьевич пришел на Дмитровку, когда Женя навещала бабушку. Женя, увидев отца, кинулась к нему, он шагнул ей навстречу. Слезы стояли у него в глазах, он оглянулся, сел на диван, посадил Женю на колени, и они, обнявшись, сидели и плакали, Женя плакала, и папа плакал.
– Ты не думай, он хороший. Я его люблю. Ты меня прости, – говорила Женя, не утирая слез, бежавших у нее по лицу.
– Что сделано, то сделано. И ты меня прости, – шептал отец. – Наверное, я не понял.
Они опять обнялись.
– Давай, я его позову, чтобы он сам мог все сказать.
Женя позвонила Севе, и он сразу же приехал. Она не могла присутствовать при их разговоре и ушла, они остались вдвоем. Потом Сева частично ей передал их беседу.
– Ты понимаешь, какое сокровище ты получил? Ты понимаешь, что за создание у тебя в руках? – спросил Семен Григорьевич.
– Конечно, я понимаю. Вы должны мне верить, что я сделаю все, чтобы она была счастлива.
Папа, в свою очередь, ей рассказал, что, когда он предъявил Севе претензии по поводу внезапной и тайной свадьбы, Сева ответил, что это была идея Жени.
– «Это не я, это Женя так решила» – вот его точные слова. Он ответственность за свое гусарское поведение переложил на тебя. Ты это знай.
На семейном совете постановили, что надо сыграть свадьбу, позвать знакомых, всем объявить: родственникам, сослуживцам, друзьям. Познакомиться наконец-то с мамой Севы. В общем, сделать все по-людски.
Глава 4
Дни и труды
1
Севу в школе били. Это началось в пятом классе, когда к ним перевели нового мальчика, Олега Бочкарева. Бочкарев возненавидел Севу с первого взгляда. «Жидовская морда» или «Саррочка», никак иначе он к Севе не обращался. Для класса это было в диковинку. Даже на пике дела врачей, когда Москва была заражена антисемитизмом и евреев на улицах били и таскали за бороду при полном попустительстве милиции, у них в школе было все спокойно. Бочкарев и два его новых друга, Саша Оганезов и Коля Шальных, оба здоровяки, главные спортсмены класса, поначалу довольствовались мелочами – заливали Севе тетради чернилами, крали книги из портфеля, сбрасывали его вещи с парты.
В стране царила шахматная лихорадка. В шахматы играли все, и советские шахматисты – чемпионы мира, считались национальными героями. Кумиром был Тигран Петросян, сын дворника, сам в юности подметавший улицы, – настоящее воплощение советской мечты «Кто был ничем, тот станет всем». На каждой перемене и после уроков в классе устраивались шахматные баталии. Бочкарев и компания играли в шахматы и страстно желали обыграть Севу, лучшего шахматиста класса. Их бесило, что никому и никогда это не удавалось. После очередного поражения они подкарауливали его там, где их не могли увидеть учителя, и били. Сева пытался отбиваться, но их было больше, и каждый из них был сильнее его.
Младший брат Олега Бочкарева, Коля, худенький мальчик с огромными карими глазами, был таким же патологическим антисемитом, как и его старший брат. Завидев Севу, он заходился от ненависти и начинал юродствовать, за что и бывал нещадно бит Севой. Коля был слабеньким и младше Севы на несколько классов, его Сева мог легко одолеть. А на следующий день Олег с дружками учили его самого коваными сапогами: «Будешь знать, как бить моего брата, жидовская морда». Их было всего трое, его гонителей, для которых охота за Севой являлась главным развлечением школьной программы, остальной класс в этом участия не принимал. Ребята сторонились и не вмешивались, и даже если в душе скорее осуждали Бочкарева, то тщательно это скрывали. С Олегом никто связываться не хотел. Сева чувствовал себя абсолютным изгоем. Так продолжалось три с половиной года.
В восьмом классе, на следующий день после его дня рождения – Севе исполнилось четырнадцать – он вернулся домой со следами побоев, скрыть которые было непросто.
Все эти годы ему удавалось утаивать происходящее от матери, потому что он не мог себе представить, что бы с ней было, если бы она узнала. Когда она замечала синяки на его теле, он врал, что упал с велосипеда, после чего она, разумеется, запрещала ему впредь кататься на велосипеде, или поскользнулся на мокром полу и скатился с лестницы, неудачно прыгнул через козла на уроке физкультуры. Отец же, если и понимал, что творится, ничего не говорил, считал, что Сева должен разобраться со своими делами сам.