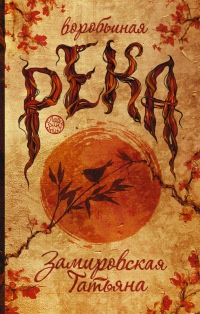– Отказаться от города, – говорит он, – от суеты, к которой привык, от спешки, проблем, встреч, трепа, телефонных звонков, свиданий, постоянного ожидания сюрпризов! Стоило мне только представить это – и я уже чувствовал себя конченым человеком.
Да ты такой и есть, сказал бы я ему, если бы не считал, что, поддерживая разговор, иду на уступку его невыносимой, назойливой болтливости. Может, подумал я, до него, даже при полной его неспособности сомневаться, дойдет, наконец, что мне не так уж и нравится быть подавальщиком досок в такую погоду? Вдруг, заметив, что я молчу, он, хотя бы просто ради умственной зарядки, попробует представить себе, как я на него зол? Нет, он не останавливается – лупит молотком, слезает с лестницы, переставляет ее и снова на нее лезет, зашивая мало-помалу стену построенного им дома. Кажется, он так и будет сутки напролет вколачивать гвозди, пока не обошьет со всех сторон свои идиотские принципы.
– В самом деле, – говорит он. – Я чувствовал себя ничем не обремененным, легким на подъем, потому что у меня не было места. Свободный художник, одним словом. Ни пристанища, ни обязанностей. Я словно годами жил в коридоре и считал себя независимым лишь потому, что ни разу не заходил ни в одну комнату.
Бум-бум-бум. Хотел бы я знать, кто из них, он или Марианна, первым начал выражаться в этой витиеватой манере, играть метафорами, иначе говоря, кто кого заразил. – Самое большее, что я себе позволял, – говорит он, – это, прислонившись к косяку, постоять в дверях. Но мне всегда казалось, что это не та комната, которая мне нужна, что на свете полно таких комнат, что жизнь художника – постоянный поиск, что надо оставаться свободным. Я суетился, я метался, как мышь в мышеловке, и мне не приходило в голову, что еще год-другой, и я в этом коридоре загнусь.
Доски, слава Богу, кончились. Витторио посмотрел вниз и, увидев, что больше нет ни одной, кажется, сильно разочаровался: еще бы, теперь уж точно не удастся в эту пургу стену закончить.
Ну все, с меня довольно, я больше и пальцем не пошевелю, пусть один работает, если ему так хочется.
Он спускается с лестницы, смотрит, сколько навалило снегу, смотрит, как он набил доски, смотрит на меня и ждет, что я скажу.
Я не говорю ничего, но ему на это наплевать. Он улыбается, берет ящик с гвоздями и говорит:
– Ты еще не видел мою мастерскую.
Мастерская такая же большая, как ателье, только не такая светлая. Здесь собачий холод, верстак, циркулярная пила, строгальный станок, пилы, молотки, напильники, рашпили, рубанки, большие и маленькие, шпон, доски, массив разных пород и разной толщины, банки с клеями, банки с воском и лаками.
На столе и на стене четыре гитары в разной стадии готовности. Витторио вытирает тряпкой руки, берет ту, которая выглядит полностью законченной, протягивает мне.
Гитара большая, копия модели «Gibson J 200», но полегче и более разукрашенная: верхняя часть грифа инкрустирована деревом, вокруг резонаторного отверстия орнамент из перламутра. На первый взгляд, работа хорошая, почти профессиональная, только склейка грубая, все швы видны.
Витторио и мне протягивает тряпку.
– Тебе не трудно вытереть руки? – говорит он.
Возвращаю ему гитару и, не скрывая раздражения, нарочито тщательно вытираю руки, хотя не только они у меня мокрые: я с ног до головы мокрый и замерзший, а у этого психа никаких угрызений совести, как будто я не по его милости торчал столько времени под снегом. Он смотрит на меня как ни в чем не бывало, протягивает гитару и говорит:
– Не попробуешь?
– Я не гитарист, – отвечаю ему сквозь зубы, – я пианист.
– Какая разница, – возражает он, – ты же музыкант. Скажи свое мнение. – И прямо впихивает мне гитару в руки.
Зажимаю струны полуотмороженными пальцами левой руки, правой пробую звук. Он громкий, резкий, что называется, фанерный. Витторио так и светится, ждет, что я сейчас начну восторгаться.
– Ну как? – спрашивает он.
– Да так, – отвечаю и зажимаю аккорд наверху. Он звучит фальшиво – порожки не на своих местах. И шейка грифа слишком толстая, левой руке неудобно. Да, стены у него лучше получаются, чем музыкальные инструменты, это точно.
Возвращаю ему гитару, и он очень бережно принимает ее из моих рук.
– Знаешь, – говорит он, – все началось с простой забавы. Увидел я как-то рекламу одной фирмы, которая выпускает музыкальные инструменты в виде полуфабрикатов, и заказал себе комплект для гитары. Я как раз закончил дом, хотелось чем-то руки занять. Представь, у меня неплохо получилось, и тогда я решил продолжать, но уже самостоятельно. Купил дерево, купил специальный инструмент, и все теперь делаю своими руками – от и до. – Он повесил гитару на место и показал мне станок, на котором выгибает обечайки, разных размеров струбцины. – Свою первую гитару я подарил гуру. Он был счастлив, хотя сам не играет, сказал, что лучшего подарка в жизни не получал. Остальные я раздал тем, кто хоть немного умеет играть, здесь есть такие. В прошлом месяце в Кундалини-Холле был концерт трех гитаристов, и все трое играли на моих инструментах, представляешь?
Вот уж не предполагал, что он еще и на это может тратить энергию, и главное – так восхищаться своей более чем средней продукцией, нисколько не смущаясь, что занимается не своим делом. Возможно, подумал я, это влияние упрощенности, невзыскательности и восторженности, царящих в Мирбурге; в такой обстановке немудрено утратить чувство самокритики – ведь здесь не результаты ценятся, а лишь благие намерения.
Витторио перекладывает напильники и рашпили, переставляет банки с клеем, стряхивает опилки с верстака; сейчас у него еще более гордый вид, чем в ателье, когда он демонстрировал мне свои картины.
– Знаешь, о чем я мечтаю? – спрашивает он. – Сделать инструмент, на котором сам я играть не умею. Для других сделать. Вот было бы здорово, верно? Слишком долго я работал на самого себя, как говорит Марианна, был единственным объектом собственной деятельности.
Не отвечаю ему ни слова. По-моему, Марианне удалось-таки сделать из него дурака, во всяком случае, она до того напромывала ему мозги, что он стал таким, каким ей хотелось его видеть.
Невыносимо холодно, даже холодней, чем на улице. Печка, конечно, выключена, и Витторио даже в голову не приходит ее включить. Непонятно, почему он сам никогда не мерзнет? То ли толщина и мощные мускулы защищают его от холода, то ли его согревают конструктивные идеи, бурлящие в нем двадцать четыре часа в сутки.
– Здесь я провожу больше времени, чем в ателье. Мне даже кажется, что сделанное здесь важнее того, что я делаю там. – Он показывает мне дерево разных пород и объясняет: – Индийский палисандр, красное дерево, клен, орех идут на заднюю деку и боковины. Американская ель, европейская, ель Энгельмана – на переднюю деку. Каждое дерево отличается по звуку, по тембру. У клена, например, звук более строгий и чистый, у красного дерева – глуховатый, у палисандра такой же чистый, как у клена, только звонче и на басах теплее. Различия небольшие, но они есть.