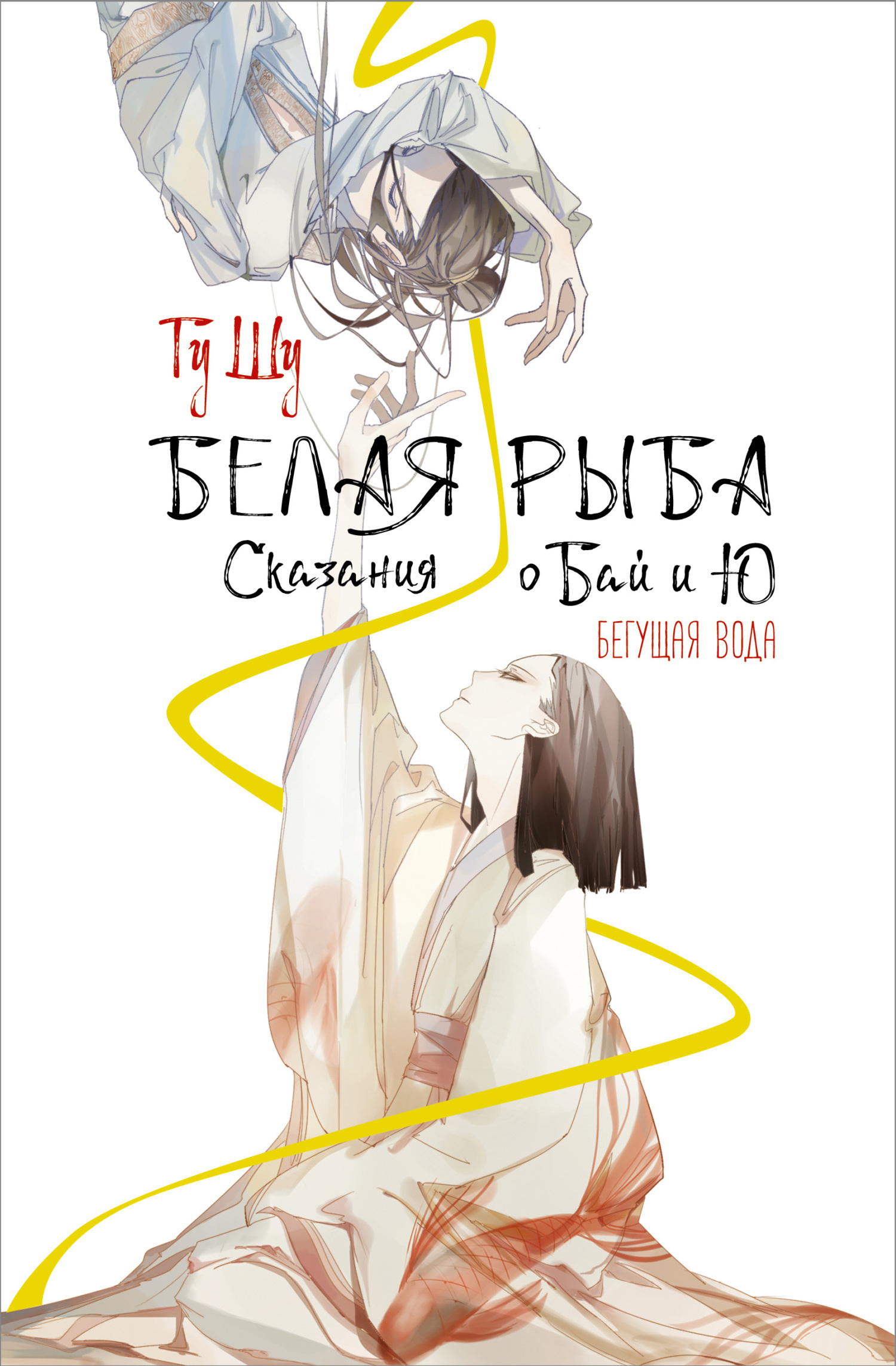тулуп на плечах поправляя, поскрёб за ухом, да и пополз на четвереньках. Из-за шершавых сосновых стволов осторожно выглядывает, присматривается. Видит: лежит за лесом деревня на речном берегу, крыши серые, тростниковые, а у окраины один двор наособицу — корчма. Телега к ней подъезжает, мужик из колодца воду тянет, за сараем вишни цветут, а меж ними на верёвке бельё полощется. Туда, значит, ему и надобно.
Просидел он на опушке, в орешнике, сколько-то времени, чтобы люди разошлись. Темноты ждать не стал — вечером у корчмы завсегда больше народу, да и бельё снимут, не то его ночью нечистая сила запакостит. Поднялся, чтобы хоть издали на человека походить, прошёл нешироким полем, сделал крюк, да и подобрался к корчме со стороны сада. Ещё огляделся — вроде никого. Пригибаясь, голову в плечи втягивая, метнулся к верёвке, сцапал рубаху за край — тут его самого кто-то схватил за ухо.
Рванулся Завид, рубахи не выпуская, оскалился и увидал мужика, немолодого, крепкого, с седеющими уже тёмными волосами, густыми бровями и окладистой бородой.
— На чужое добро заришься? — прищурившись, недобро спросил мужик и крутанул ухо. — Ты откуда таков, голодранец?
Завид на него зарычал.
— Охти! — визгливым бабьим голосом воскликнул кто-то, всплёскивая руками. — Как есть зверь, волколак, должно! Я, вишь ты, у леса его приметил, гляжу — на четырках полозит…
— Уймись, Мокша! — прикрикнул тот, кто держал Завида, и повернулся. Уха не отпустил, оттого Завид, приплясывая, развернулся тоже и увидал вовсе не бабу, а другого мужика, одутловатого, лысоватого и рыжего.
— Я-то уймусь, моё дело малое, — с обидой сказал рыжий, задирая нос, — да как бы парень не перекинулся да руку тебе не отхватил! А тулуп-то, гляди-кось, знакомый: у Добряка, видать, упёр. Латки на ём цветные, приметная вещь-то, да весь, поди ж ты, в чёрном волосе!
Тут он пригляделся и ахнул, отшатываясь:
— Волчий волос и есть! Охти, кликай людей, Невзор! Волколака изловили!
Однако Невзор шума поднимать не захотел. Послал рыжего за Добряком да велел покуда помалкивать, никому не слова. Мокша, ворча, ушёл, а Невзор Завида под руку — да и в сарай отволок, на землю бросил, встал над ним, пытает:
— Откуда ты, кто таков? Подобру отвечай!
Завид только зубы скалит и рычит.
— Речь людскую разумеешь?
Не отвечает Завид. Выпытают, все слова наизнанку вывернут, так и так виноват останешься. И так уже с ним, как с вором, а он рубаху-то и взять не успел…
Поддёрнул рукава Невзор, присел, поглядел сверху вниз.
— Что в руке зажимаешь? — спросил сурово.
Завид на локтях отполз, только Невзор за руку его схватил, мало не выдернул, и пальцы силой разжимать стал.
— Это моё! — закричал Завид. — Моё!
— Ишь, голос прорезался! Да что это у тебя, землицы грудка, что ли? Что ты там запрятал — перстенёк?
— Не твоё, не трожь!
— Ишь ты! — усмехнулся Невзор. — Сам-то до чужого добра охочий, а твоё не трожь. Да что там такое, будто и ничего?
— Цветок…
— Ишь ты, цветок!
Отпустил его Невзор. Поглядел, как Завид, прикусив дрожащие губы, расправляет изломанный белоцвет.
— Что ж за цветок-то? — спросил, усмехаясь. — Волшебный?
Как ему объяснишь? От всего, что было, один цветок и остался, а теперь и того нет…
Тут пришёл и Добряк, брови хмуря. Тулуп живо признал, в лице изменился да Завиду в горло вцепился, тряхнул, одним рывком на ноги поставил.
— Говори, паскуда, кто таков! — закричал в лицо, выкатив глаза и брызжа слюной.
— Полегче, Добряк! Прибьёшь парня! — замахали руками мужики.
— А его, паскуду, может, и надо прибить! — напустился он уже на них. — Тулуп этот я в лесу держал, есть у меня землянка, да он, приблуда, видать, как-то набрёл на неё. Умила моя днесь из лесу прибежала сама не своя, ничего не говорит, плачет. А ну, отвечай, голодранец, ты её изобидел?
Завид головой замотал, пытаясь разжать чужие пальцы.
— Да горло ему не дави! — сказал Невзор. — Как он тебе ответит?
Добряк послушал, ослабил хватку, и Завид прохрипел:
— Проклят я… В волчьей шкуре… неведомо сколько…
Слово за слово, мужики вытянули из него всю правду — и как мать его колдуну в помощи отказала, а тот отплатил, и как Радим на цепи держал, и как Божко палкой колол, а Ёрш на ногу наступил. И как Умила потом его нашла.
Начал он рассказывать о том, как они вдвоём без помощи справлялись, но тут Добряк его прервал.
— Ну, будет врать! — прикрикнул. — И так уж ясно всё.
Посмурнели мужики.
— Нехоро-ошее дело, — протянул Невзор. — Так откуда ты, говоришь?
— Из Засмолья.
— Это где?
— Я слыхал, — оживился Мокша. — Недалече, за Перемутом. День, может, два пути. Нешто думаешь, не врёт парень?
— Засмолье, Добродея-травница… Ну, Жбана с ним отправлю, как вернётся. Пущай проверит, врёт али нет.
Они спорили, а Завид пытался понять, чего ждать. Верить им или бежать? Они его тайну вызнали, и как ещё поступят, неведомо. С чего бы им помогать ему? Должно, где-то подвох, и он вслушивался в голоса, вглядывался в лица, ища подтверждение тому, что мужики говорят одно, а намекают на иное.
В сарае было тесно, и он, переминаясь с ноги на ногу, задел корыто, оно упало, толкнуло прялку, и мужики смолкли, обернувшись на шум.
— В баню бы его свести да приодеть, — решил Невзор.
— Сам и приодевай, — хмуро сказал Добряк, — а тулуп он пущай отдаст. Стану я ещё приблудам всяким тулупы раздавать!
Слова у него с делом не разошлись, он тут же и вытряхнул Завида из одежонки.
— Прибить бы тебя за одно то, — добавил, — что с девкою жил да зверем прикидывался! Небось всё разумел, глаза бесстыжие пялил, обнимать себя позволял, оглоед, голодранец! Уж погнали — воротился, его в дверь, а он в окно. Ишь, ласки ему захотелось… Ежели к Умиле ещё сунешься, я те руки-ноги переломаю, гнус ты этакий, рожа паскудная!
Невзор его вытолкал, отправил Мокшу топить баню и осмотрел Завида, цокая языком.
— Да-а, досталось тебе, парень, — сказал он. — Ишь ты, следов-то на шкуре, следов… Сколь годов-то тебе — пятнадцать, шестнадцать?
— Не ведаю, — глухо ответил Завид. — Как мамку в последний раз видал, было пять, а там уж со счёту сбился…
— Да что ты хмурый такой? Ежели не солгал, скоро обнимешься с мамкой. Жбан ввечеру вернётся, поутру и поедете.
Завид кивает, а верить не спешит.
Отвели его в баню, дали краюху хлеба с солью. Завид и не помнит, когда ел, а тут хлеб свежий, дух от него ржаной, да соль крупная, чистая. Ну за обе