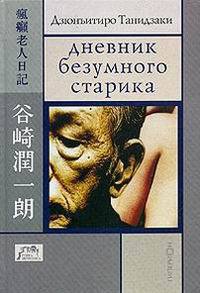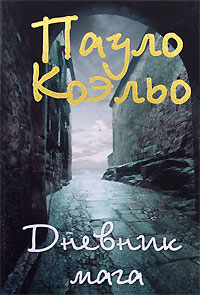я видел сестру милосердия, как она держит лампу и поднимает меня. Я дрожал и стучал зубами в лихорадке. Я почувствовал, что мне снились галицийские леса, и казалось, что в ушах еще стучат пулеметные очереди.
Я проснулся и огляделся, дорогой мой. Была полночь. На столе стояли белые розы, принесенные мне одной женщиной, чужой женой. Сестра дала мне брому, погладила по щеке и сказала: «Вы беспокойно спите, и плачете, и кричите, наверное, вы опять долго читали эти ваши безумные книги. Завтра скажу доктору. Разве вы не видите, как вы высохли? Боже мой, я не так представляла себе сербов».
Что я мог поделать, дорогой мой? Отвернулся к стене. Она пристроила у меня на груди кубики льда. Я хотел спать, но мой проклятый мозг все время вспоминал. Я хотел уснуть, но мне все время кто-то на ухо нашептывал Микеланджелову «Ночь». Комедия, дорогой мой. Жаль только, что от этого умирают. Вот так, видишь, проходят мои ночи, в лихорадке и снах, дорогой мой, в снах, которые не намного безумнее яви.
* * *
Ночи ледяные и звездные. Окна оставляют открытыми. Говорят, лед и звезды вылечат мои легкие. Заледеневшие ели прижимаются к моей груди, они стоят под моим окном, они мне сказали, что лучше быть елью, а не человеком. По вечерам я читаю Тибулла и вспоминаю одну из моих теток, похороненную на беспечальном, ароматном сплитском кладбище, и сплитского сфинкса, на котором я сидел верхом. Я тогда был весел и юн, и говорил, взобравшись на сфинкса, весело, сам себе: «Танцуйте, ночь уже взошла на колесницу, за колесницей весело несутся звезды, а за ними приходит сон, на паре гнедых, и с ним мрачные видения».
Я лежу и смотрю на ледяные вершины, как они сверкают в багровом лунном свете. Вдалеке гремят орудия. Я держу в руках платочек чужой жены, благоговейно и задумчиво, я, тот, кто никогда так не держал платочек своей. И пока врач часами мне рассказывает о причинах войны, я предчувствую, что умру сентиментально, как артист. Не зная, что меня родила мать, и оказавшись неспособным никому сделать добро, и менее всего себе. Если бы я мог, то вернулся бы туда, где грохочут орудия, и, пройдя русских насквозь, ушел бы далеко, куда-нибудь на Новую Землю, туда, где лед зеленый, вода подо льдом голубая, а снег алый. Там бы я, пораженный многоцветьем, засмотрелся и забыл все.
Живется, как придется, лежу целыми днями. Небо входит по ночам в открытые окна, а холод проникает в меня и засыпает. Все заснеженные ели приникли к моей груди, лечили ее и шептали мне, и учили меня любить мать нашу землю. На заре я просыпался, и, укрытый, вот так, до ушей, наблюдал, как кровь Солнца разливается по лесам. Орлы пролетали над скалами, а где-то в глубине гремели пулеметы каких-то польских резервных полков, что упражнялись по деревням. Весь день мы лежали в снегу. Только поесть мы собирались вместе, стучали зубами от холода и давились молоком и рисовым пудингом. Одна красивая, очень красивая монахиня будила меня, сидела на моей кровати и много болтала. Знаю, однажды я над ней дерзко подшутил. Я хотел ее обнять, она вскрикнула и убежала. Но я заметил, что с того дня она стала ухаживать за мной лучше.
Я парил над лесами. У меня за спиной падали еловые шишки, а я где-то присел на камень и слушал, как на меня падает снег. И я слышал, как они шагают, голодные, оступаясь, по албанским горам и засадам; как переселяются, опять переселяются. Я слышал, как они падают и испускают дух рядом с трупами лошадей, и я слышал, как рядом со мной читают, что хорватские части перешли границу. А один мой друг учреждает адриатические банки и пишет, что все это забудется. Да, забудется, и пьяные спляшут коло на пепелищах. Мой давний друг, в Темишваре,[38] прыгнул с четвертого этажа и погиб из-за всего этого. О, если бы все мы, на чужбине, начали прыгать с четвертого этажа, насмешили бы весь белый свет.
Серны напуганы и убегают, когда видят наш след. Она меня, разумеется, обожает. Как это смешно. Я люблю тех, опасных, а все хорошие плачут обо мне. Меня больше ничто не удивляет. Я просыпаюсь на заре и читаю Данте.
Когда опускается ночь, она приходит ко мне. Иногда мне кажется, что я безумен, но чаще — что безумны другие. Я делаю все то же, что и другие. Меня родила женщина, я познал любовь и восторг. Я знаю органическую химию, я даже знаю, что есть бессмертные идеи. Я брат любому, а нас миллионы. Мне наскучили шелка любви и все эти душевные глубины. Я побываю на войне, опять, и вихрь, и ужасы, и дожди, те страшные дожди. Там, где мужчины, хочу хотя бы быть среди мужчин, мне противны все эти разъяренные мадонны.
Потом, однажды в послеполуденные часы случилось чудо. Снег начал таять, и какие-то малые птахи прилетали из лесу и садились нам на руки, вспархивая испуганно, если кто-то начинал кашлять. Грозный грохот лавин будил нас по ночам. Тогда и деревья начинали шелестеть тихо, медленно; ручей где-то в глубине звучал голосом новым, ласковым, причиняющим боль. С деревьев облетала последняя желтая листва, давно увядшая, но еще не развеянная ветрами. Орлы исчезли, а небо приобрело приглушенное и глубокое сияние.
Снег такой странный. Он не тает, не умирает, как все другое, он смеется. Он танцует, он напевает. Появляется внезапно там, где его уже никто не ждал. Птичек он любит, кое-где открывает им немного земли, и они здесь поклевывают, с каким-то милым беспокойством смотрят на землю, где зернышек нет; потом подпрыгивают раз-другой и улетают обиженно.
Есть одна скамья, одна хорошая скамья, там, над пропастью, вся выдвинутая наружу, в воздух, в небо. Здесь бы я сидел. Я утратил связь и смысл человеческих поступков и воспоминаний. Все это смешалось во мне. Кто знает, что есть жизнь?
* * *
И зима — оборванка. В тряпье и печальных лохмотьях шлейфом лежали на скалах небо и снег. А звезды потемнели, и ночи не были уже такими звонкими, стихли, и наполнены очарованием плача. Я много раз опускал руки. Во мне была какая-то усталость, усталость, у которой не было ни причины, ни повелителя. Много раз голова моя в изнеможении склонялась, и подступали горькие слова, которые я шептал просто так, ветру.
Люди кашляли все сильнее, и