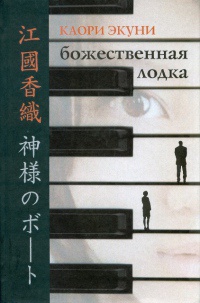С утра лил дождь, погода плакала с нами. Потом небо очистилось и солнце засияло над зеленым пригородным местечком в Лонг-Айленде, согрев землю, которая так долго ждала маму.
Глава 20. «Когда меня не станет…»
Так говорила мама незадолго до смерти, сообщая нам, удивительно детально и точно, о том, что будет, когда она уйдет, о грядущих событиях, больших и маленьких.
Не успело остыть ее тело, как все это стало сбываться.
Сразу после похорон началась Неделя поминовения. Неделя эта называется «Шива», что на иврите означает «Семь». По обычаю дети, братья и сестры усопшего проводят ее вместе. Проводят дома, в разговорах, в воспоминаниях об ушедшем.
Этому мы сейчас и посвящали время. Всю неделю у нас дома находились Эмма, а также Авнер и Маруся, мамины брат и сестра. Мы сидели в гостиной на полу, возле дивана, застеленного ковром. Это тоже входило в ритуал: удобства не позволялись.
Как странно это было – говорить о нашей маме в прошедшем времени! Странно и трудно, невообразимо трудно. Да, сегодня ее похоронили, ее уже нет с нами. Знаю об этом, помню. Но ощущение, что она здесь не желает считаться с этим! Ее нет – но почему же мне тогда слышатся ее шаги на лестнице, ведущей вниз, из спальни? Вот поскрипывают ступеньки, одна за другой. Восемь, девять… И точно там, где всегда, короткая пауза: мама дошла до середины – и остановилась на миг, чтобы охватить взором уже открывшуюся ей часть гостиной… Одна нога ее, конечно, повисла в воздухе – ведь сейчас она пойдет дальше… А вот она увидела нас всех, сидящих на полу, в удивлении скосила голову и озарила нас, комнату, весь мир своей незабываемой солнечной улыбкой.
Я встряхиваю головой, видение исчезает, остается только боль, поселившаяся где-то в груди… Но проходит минута – и мама уже сидит в своем любимом уголке дивана, совсем рядом с тем местом, на которое я опираюсь… Я убираю локоть, опять встряхиваю головой…
– Можете даже и не сомневаться, – будто почувствовав все то же, что и я, сказал дядя Авнер, – можете не сомневаться: мамин дух сейчас витает вокруг нас. Он все видит и все слышит. Он покровительствует нам!
Моя сестра кивнула, но лицо ее оставалось скорбным. Вероятно, ей было труднее, чем мне. Ведь столько лет я скрывал от нее истинное положение вещей. Я охранял ее от горя – зато с какой страшной силой оно теперь обрушилось на неподготовленную душу! Я знал, что Эммка упрекала меня за это, даже сердилась… Но любя, любя! После смерти мамы мы стали как-то еще ближе, еще сильнее почувствовали свое кровное родство. И ни за что на свете не хотели бы мы теперь хоть чем-то нарушить нашу дружбу… А разве не об этом говорила мама, часто повторяя азиатскую пословицу: «Родная плоть стремится к родной плоти, чужая – к чужой».
«Как жаль, – подумал я, вспомнив об этом, – что не записывал маминых высказываний. А ведь какими мудрыми и меткими они были! Многое из того, что она говорила, передавалось веками, от родителей к детям. И у нее такой светлый был разум… Теперь наш черед – передавать… Сможем ли? Я не записывал, все думал, что успею. Ведь в нашем понятии родители – вечны…»
Эмма снова вздохнула. Она сидела, подперев рукой щеку, вся в черном. Высокая, стройная – ей любой наряд к лицу.
– Мама дала, – поймав мой взгляд, сказала она и погладила кофточку. – Еще год назад… «Наденешь, – сказала, – в день похорон». Так и случилось. И вообще – ты замечаешь – все происходит так, как она говорила. Ой, мама, мама, откуда же ты все знала наперед? Как все, до мелочей, четко себе представляла?
Я кивнул. Я тоже мог рассказать кое-что. «Когда меня не станет, – говорила она, – все они придут на мои похороны. Вот увидишь. Чтобы потом помириться с вами…»
«Все они…» Я увидел их сегодня утром в синагоге – как мама и говорила. Поседевших, постаревших… Да бог с ними, не хотелось мне о них думать, вспоминать, говорить. Ни сейчас, ни на похоронах, когда я стоял возле синагоги. Там было так торжественно, тихо. Белые колонны, высокие потолки, гулкие гранитные полы… В массивные двери, открытые настежь, задувал утренний ветерок, нежный, теплый. Он обдувал мою голову, поигрывал в волосах… Был ли это только ветер? Мамин день… Дух ее сейчас витает над нами – и ничто его уже не тревожит. В нем только любовь, любовь к нам…
– Дух усопшего, – услышал я голос дяди Авнера… Наши с ним мысли и чувства переплетались сегодня самым удивительным образом… – Наверно, он, бестелесный, невидимый, наделен неограниченной силой. И уж конечно, он может читать наши мысли… И – кто знает – может являться по нашему зову. Ведь мы это даже чувствуем порой…
– Да, да, – кивала головой сестренка.
– Вот послушайте, – сказал дядя. – Я вспомнил, как я хоронил свою маму, вашу бабушку Абигай… Была лютая зима, а мы везли ее из Ташкента в Самарканд, чтобы похоронить рядом с дедом… Она так хотела… Как уж мы одолели перевал – не знаю. Страшный был гололед. Но вот подъезжаем к городу, а я думаю: «Как же хоронить будем? Землю ведь не пробьешь для могилки!»
Дядя прислонил к груди колени, обхватил их руками, прокашлялся.
– Объясняйте как хотите, а я говорю, что есть дух усопшего, наделенный силой… Не успели мы подъехать к Самарканду, как началось резкое потепление. Лед на дорогах стал таять, превращаться в кашицу… В тот же день мы и похоронили вашу бабушку Абигай… Стало быть, услышал ее дух, что мы в тревоге – и помог! – с волнением сказал дядя…
Можно смеяться над суевериями, можно сколько угодно опровергать их, понимать, что они не выдерживают суровой критики разума, что это всего лишь утешительные сказки, доставшиеся нам от нашего детства и от детства всего человечества – но как же эти сказки нужны людям! Они нас облагораживают, они помогают нам жить. А когда мы теряем близких, помогают нам сохранять ощущение их присутствия. Не только в нашей памяти, но и в природе, во Вселенной… Так позволим же себе быть суеверными, если это целебно для души!
Что же касается Эммки, то она горячо поддержала дядю, нисколько не сомневаясь в безграничном могуществе духов. В лице дяди Авнера она нашла собеседника, близкого по взглядам. Эммка увлекалась мистической литературой, зачитывалась книжками о карме, о гаданиях и могла часами говорить на эти темы. Бывало, она очень серьезно обсуждала их с мамой и мои попытки вмешаться – выразить, скажем, сомнение или пошутить пресекались обычно Эммкиным возгласом: «Иди себе, Валера, не пудри нам мозги! И вообще не лезь в женские дела!» И обе они заливались смехом.
Да, мама тоже верила и в духов, и в загробную жизнь, Но разве сейчас не жаждал этого и я? Разве всем своим существом не ощущал ее присутствия здесь, с нами?
Дядя Авнер – тот рассуждал о мамином посмертном пути, как о чем-то хорошо известном и бесспорном.
– Сейчас там, – он указал на небеса, – над Эстер суд идет. Решается, куда она попадет – в рай или в ад… И вы, дети, причастны к этому. Ваше поведение, особенно в первые тридцать дней, то, как вы соблюдаете законы и обряды, строго принимается во внимание…
Дядька не сказал, кем именно «принимается во внимание», но это и без того было ясно: Им, Главным Судьей и Вершителем человеческих судеб.