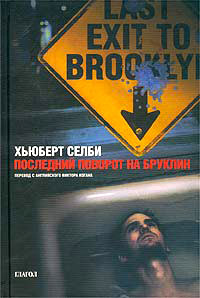Ко мне приходят другие члены юденрата, обеспокоенные судьбой Саула и Гизелы. Мы решаем отправиться все вместе к Крюгеру, чтобы узнать, что с ними. Нам кажется, что мы можем взять числом. Нашу делегацию возглавляет председатель юденрата — доктор Исаак Вайнбергер. Его уважают даже нацисты, так как ему удается вылечить гестаповцев, получивших переломы после падения грузовика в кювет. Мы приходим в кабинет Крюгера, и тот начинает бить Вайнбергера стеком и продолжает экзекуцию, несмотря на наши мольбы. Крюгер кричит на нас, грозит провести специальную Aktion для всего юденрата и их семей, если мы не научимся уважать его высокое положение. Затем он кидается ко мне с воплями. Он, дескать, знает, что это я за всем этим стою. Итак, говорит он, хочешь увидеть своего тестя? Я не отвечаю, потому что немею от страха. Однако киваю головой. Крюгер говорит, что умеет обращаться со свиньями. Его дед держал свиней, и свиньи эти всегда кончали одинаково. Потом он ведет меня на бойню за гетто и вводит внутрь. Здесь у гестапо тюрьма и место для допросов. Я слышу крики и стоны людей, но никого не вижу. Крюгер быстро идет вперед, я следую за ним. Повсюду запах крови и испражнений, но трудно сказать, чья это кровь — животных или людей. Мы подходим к охраннику возле двери. «Юнгерманы готовы для посещения?» — спрашивает Крюгер охранника на диалекте, который, как он думает, я не пойму.
Гестаповец ухмыляется и отвечает, что они готовы для любых посещений. Я делаю шаг в темноту, и Крюгер зажигает лампу. Саул Юнгерман висит на крюке, на который подвешивают туши животных. Острие протыкает его насквозь под лопаткой. Я не узнаю его лица: так сильно избит Саул. Но он еще жив, и его опухшие глаза устремлены на что-то в другом конце комнаты. Я смотрю туда же и вижу обнаженную Гизелу. Она висит, подвешенная за ноги, и ее тело распорото от горла до промежности. Вываливающиеся внутренности почти скрывают ее лицо. Крюгер быстро выходит вон, и я слышу, что его рвет в коридоре.
В тот вечер он заставляет меня играть «Времена года» Вивальди.
И хотя Соня постоянно задает мне вопросы, я не рассказываю ей об увиденном на скотобойне. Говорю, что ее родителей увели под конвоем. Я ничего не рассказываю и другим членам юденрата. Так как не думаю, что мне стоит еще больше нагнетать обстановку, усиливая их страхи. Мы все уже прекрасно знаем, что находимся в руках сумасшедших и мясников. Соня сама себя успокаивает, лелея надежду, что, возможно, ее родители отправлены в трудовой лагерь. Я старательно поддерживаю такие мысли. Отчаяние — наш хлеб насущный, и его у нас сколько душе угодно.
В июле — еще одна Aktion и еще пятьсот евреев отправляются на убой. Бригаду еврейских пожарных вывозят в поле и заставляют копать братскую могилу. Потом несчастных евреев принуждают раздеться догола. Один молодой еврей по фамилии Волынский набрасывается на гестаповского охранника. Волынскому удается привязать к ноге нож длиной шесть дюймов, и он втыкает этот нож в горло гестаповца, а тот, захлебываясь собственной кровью, бежит за Волынским и закалывает его штыком. Ответ не заставляет себя ждать. Волынский еще не успевает умереть, как уже становится причиной того, что нацисты облагают евреев дополнительной контрибуцией. На следующий день немцы решают почтить память убитого гестаповца тем, что приказывают нам составить список еще из пятисот евреев, подлежащих уничтожению. Я знаю. Вместе с другими членами юденрата я всю ночь вношу имена евреев в этот список. И как всегда, мы выбираем самых бедных и беспомощных. И как всегда, мы выбираем тех, кого не знаем и с кем не связаны кровными узами.
Всю свою жизнь я был фанатиком чистоты. Но в гетто приходится навсегда забыть о гигиене. Как любой другой еврей, я вынужден выживать в нечистотах. Ночью крысы становятся властителями тьмы, и мы слышим, как они гремят кастрюлями и сковородками в поисках объедков. Лучшее место для крыс — это кладбище, где они жиреют, питаясь останками умерших от голода людей. Кроме того, нас осаждают клопы, которых так много, что нам нередко приходится забирать детей и отправляться на улицу — спать под звездным небом. Зимой у нас нет другого выбора, как воевать с клопами, тараканами и вшами. Вода — на вес золота. Даже грязная и тухлая. Как-то вечером один старый еврей находит время закрыть глаза, чтобы произнести молитву над куском хлеба, который он собирается съесть, но вдруг из шкафа выскакивает крыса и выхватывает хлеб из рук старика. Еврей в ярости убивает крысу ботинком, потом разделывает ее, жарит на костре и с жадностью поедает. К нему приходит раввин, но не для того, чтобы наказать старого еврея за употребление некошерной пищи, а для того, чтобы узнать, какова она на вкус. Вот так велико отчаяние евреев Киронички.
Громила по фамилии Бергер назначен следить за Ordnungsdienst, после того как его предшественника прямо на улице застрелил обершарфюрер за то, что тот недостаточно быстро выполнил приказ. Бергер силен как бык, и он всего-навсего простой грузчик на железнодорожной станции. Это пьянчуга, деревенщина и тупой, как гой, уж извини, Джек, за такое сравнение. Такие люди, как Бергер, противны другим евреям, но им ведь сделали обрезание, согласно нашим законам, а потому их приходится терпеть. Нацистам все равно, кто перед ним, Эйнштейн или Горовиц, если на дверном косяке у него висит мезуза[192]и крайняя плоть обрезана. Бергеру выдают дубинку и форму, и он с удовольствием бьет образованных евреев, чтобы добиться послушания. Евреи боятся его даже больше, чем простого немецкого солдата.
Некоторые еврейские девушки становятся немецкими подстилками или ложатся под любого, кто может их накормить. Если немецкий солдат спит с еврейской девушкой, то по законам расовой чистоты их обоих ждет смерть. Но мужчины есть мужчины, а женщины есть женщины, и за еду каждый сделает все, что угодно. Так как я член юденрата, еды у нас больше, чем у других, а потому я не слишком беспокоюсь.
Как-то раз иду я домой по главной улице гетто после тяжкого дня на фабрике, когда мы переделывали шубы в теплые шинели для немецких солдат с Восточного фронта. Я чувствую себя очень усталым от работы и безысходности. И вот иду я медленно домой, опустив голову, стараясь не привлекать к себе внимания, что является лучшим способом выживания. Вдруг возле меня начинается какое-то волнение. Крики, причитания, плач. Я поднимаю глаза и вижу, как гестаповцы хватают двух еврейских мальчиков, которые контрабандой приносят в гетто еду. Одному мальчику десять лет, а другому — девять. Это братья, и они плачут, когда солдаты снова и снова бьют их по лицу. Мальчиков волокут на площадь и ставят под петли, свисающие с виселиц, на которых обычно вешают евреев, поляков и украинцев, провинившихся перед нацистами. Нацисты любят вешать людей в назидание остальным. В этот момент на площадь на автомобиле въезжает Крюгер.
Оба мальчика истошно кричат, когда их подталкивают к виселице, но поскольку они, в сущности, еще совсем дети, я думаю, что все обойдется. Они пытались тайком пронести в гетто рыбные консервы и бутылку водки, продукты, которые сейчас стоят баснословные деньги. Мальчиков ставят на табуреты, завязывают за спиной руки и накидывают петли на шеи. Сцена — словно из дурного сна. Я слышу, как евреи стонут потихоньку, потому что не решаются открыто протестовать. Мне кажется, что я иду по какой-то странной местности, будто из ночного кошмара. Я не могу оторвать глаза от мальчиков, которые в обычных обстоятельствах играли бы в футбол на школьном дворе. И вдруг я слышу, как выкрикивают мое имя: это Крюгер, заметивший меня в толпе, приказывает выйти вперед. «Они ведь еще дети», — говорю я, не поднимая головы, и он бьет меня по лицу стеком, и я чувствую во рту вкус крови. Затем я слышу шум, и к нам, расталкивая толпу, приближается какой-то человек. Это Бергер, громила и надутый осел из Ordnungsdienst. «Это мои сыновья! — кричит он. — Сыновья вашего преданного слуги Бергера, который сам накажет их так, что они надолго запомнят. Богом клянусь!» «Это не мальчики и не сыновья, — говорит Крюгер толпе. — Это враги рейха, которые должны быть сурово наказаны».