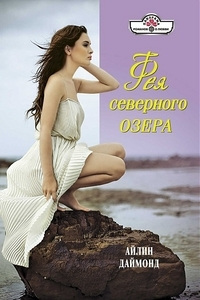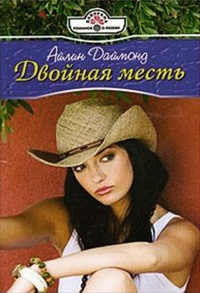Фейра похолодела. Она, конечно, слышала об ужасной эпидемии в Константинополе в 747 году, когда погибли тысячи. Болезнь, пролежавшая в спячке несколько веков, теперь вернулась.
– Черная смерть? – шепотом спросила она.
– Чума, Черная смерть – у неё много имен. Хотя её не было в городе уже много лет, я слышал о ней. Я сразу понял, что мне конец. Врач тоже знал это. Он обещал мне – золото для моей жены, высокое положение для моих сыновей, хорошего мужа для моей дочери. Казалось, он знал обо мне все. Он знал, что я сражался в Лепанто.
Фейра наклонилась ближе. Значит, Смерть знает море так же хорошо, как её отец.
– Он сказал мне, что если я соглашусь исполнить план султана, я смогу сам, в одиночку, побороть нашего старого врага. Он объяснил мне так: я мог либо умереть в этом унылом месте на вершине горы, оставив свою семью в бедности, которая так и не узнает о моей судьбе, либо стать героем – и моё имя запишут в свитки и будут воспевать в сказаниях, а моя семья будет жить в богатстве и довольстве. Выбора не было.
Фейра услышала глухой стук и шуршание, словно Смерть повернулась, чтобы улечься поудобнее.
– Ты не могла бы дать мне воды? – попросил голос. – В горле пересохло от этих рассказов. Там возле тебя должна быть кружка. Иногда матросы вспоминают напоить меня, а иногда нет.
Фейра посмотрела вниз и увидела серебряную лейку с тонким носиком в форме клюва – как те, из которых умывались девушки гарема. Она поднесла лейку к муслиновой загородке и полила тонкой струей, представляя себе чудовище, скрывавшееся внутри. Смерть, почувствовав облегчение, зачмокала.
– Меня отнесли на носилках вниз, в хранилище со льдом недалеко от залива. На это ушло немало времени, потому что они выбрали путь как можно дальше от городских стен. Врача я больше не видел, со мной остались только люди султана – в черных одеждах, в черных тюрбанах, с масками на лицах. Я так и не смог определить – солдаты они или священники, потому что о своём задании и о войне они говорили не меньше, чем о рае и жертве, которую собирались принести.
Это были янычары – личная пехота султана, фанатики, носившие черную одежду. Их забирали из христианских семей ещё мальчишками и обращали в истинную веру, и они были преданы своему новообретённому Богу намного больше тех, кто родился на лоне Пророка. Но Фейра промолчала, чтобы не перебивать Смерть.
– Эти воины Божьи поместили меня в гроб. Мне положили подстилку из шерсти для естественных нужд, сушеное мясо, и время от времени поили водой. Ящик большой, как ты видишь, и я могу двигаться и переворачиваться, но не скрою от тебя своего ужаса, когда надо мной опустилась крышка, которую стали прибивать гвоздями. Словно похоронили заживо, и я никогда больше не выберусь из этой могилы; но мне сказали, что я должен буду покинуть её – ещё один раз, последний. Если я доживу, то восстану из гроба в конце нашего плавания, смешаюсь с толпой и передам людям свой «дар». В Венеции.
Он с трудом произнес название города, словно это причиняло ему боль.
Фейра мрачно слушала. Это ужасающее откровение подтверждало то, что пыталась сказать ей Нурбану. Султан, наверное, действительно чудовище, раз он задумал такой отвратительный план. Она почувствовала сильнейший приступ тошноты и желчь, подступившую к горлу, словно болезнь вновь вернулась, но она знала, что её мучает отвращение к тому, что этот живой труп собирался сотворить с целым городом. Она попыталась скрыть осуждение в голосе.
– А если ты не доживешь?
– Воин сказал мне, что если я умру, моё тело сбросят в воду, – последовал ответ. – Более того, он сам должен будет лечь в мой саркофаг, завернуться в мой саван, дышать моими миазмами и принести заразу в город.
Всё стало проясняться, и Фейра содрогнулась.
– Так этот человек на борту корабля?
– Да. А если он умрет, его место займет другой воин султана. Каждый человек на этом судне поклялся принести заразу в Венецию. Все мы обречены, девочка; и ты тоже.
Страх Фейры уступил место любопытству.
– Но к чему столько бессмысленных жертв? Зачем везти человека?
– Добрый врач сказал мне, что во времена Юстиниана чуму завезли в Константинополь в тюках с шёлком из Пелузия. Султан мог поступить так же, но он не хотел рисковать; и доктор сказал ему, что самое надёжное – перенести чуму в теле жертвы. Так что, когда я назвал себя Смертью, я не солгал. Я не могу открыть тебе своего настоящего имени, потому что поклялся именем султана, света очей моих и радости сердца моего. Удастся план или нет, важно, чтобы источник заражения остался в тайне. Воин сказал мне, что если страны неверного Христа узнают, что произошло, наш народ будет обречен, и мы навлечем Крестовый поход на Константинополь, как в древние времена.
Теперь Фейра поняла, почему Хаджи Муса так был напуган во время их последнего разговора во дворе Фонтана омовений, что едва заметил смерть Нурбану. Теперь его предостережения обрели смысл. Врач, поклявшийся спасать жизни, не мог смириться со столь низким, бесчеловечным планом уничтожения тысяч людей.
– Но как же люди – жители Венеции? – в ужасе спросила она, не в состоянии больше скрывать осуждение.
– А что люди? – услышала она в ответ. – Врач сказал правду. Я был в Лепанто. Венецианские псы стреляли по нашим кораблям. Я видел, как они горели, девочка. Все эти матросы. Настоящий ад на земле. Нет. Я рад тому, что собираюсь сделать. Я жажду этого. И ни о чем не жалею.
* * *
За следующие два дня Фейра окрепла и поверила, что произошло чудо – и она каким-то образом излечилась от страшнейшей болезни. Она не рассказала об этом Смерти, потому что боялась дать этому человеку надежду на подобное исцеление. За эти несколько дней и ночей они подружились, и когда старший матрос, спускавшийся в трюм, возвращался наверх, она раскрывала белую занавеску и беседовала со Смертью.
По молчаливому согласию они больше не упоминали о цели их путешествия и о той инфекции, которую они везут. Они говорили о доме, о местах и вещах, которые оба знали; о базаре, о ярмарке в Пера, о регате в Босфоре. Когда у него были силы, он рассказывал о своих путешествиях, и каждый раз она вспоминала отца. Фейра спросила его осторожно, не слышал ли он о легендарном вороном коне или о коне другой масти, но он ничего об этом не знал. Она даже спросила, не слышал ли он о человеке по имени Суббота, произнеся это слово и по-турецки, и по-венециански; но при звуке венецианского имени он попытался плюнуть, собрав остатки слюны во рту, в знак презрения; муслин над его лицом потемнел, и она больше не возвращалась к этому.
Единственное, о чем она не могла говорить с ним – это о его семье. Фейра знала, что он всё равно умрет, и не могла слышать его рассказы о дочери, которая пела ему, пока пряла на кухне, или о сыне, который смешил его своими историями, пока они запрягали быка на пахоту, или о жене, которая расчесывала ему бороду и целовала его, провожая утром на молитву. Она просто старалась, по мере сил, облегчить ему последние дни, потому что даже представить себе не могла весь ужас его положения – запертый в этом пространстве и разъедаемый не только страшной болезнью, но и собственными испражнениями.