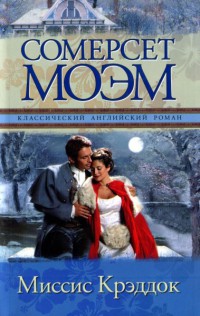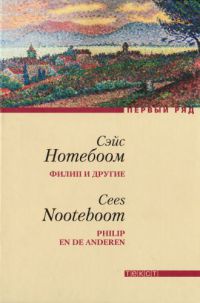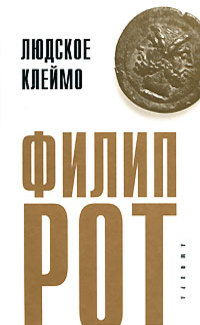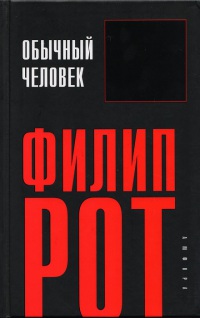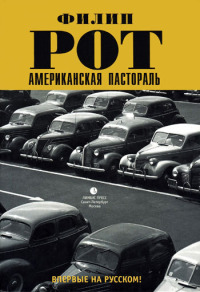Книга Куда боятся ступить ангелы - Эдвард Форстер
На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Куда боятся ступить ангелы - Эдвард Форстер полная версия. Жанр: Книги / Современная проза. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст произведения на мобильном телефоне или десктопе даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем сайте онлайн книг knizki.com.
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Перейти на страницу:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Куда боятся ступить ангелы - Эдвард Форстер», после закрытия браузера.
Книги схожие с книгой «Куда боятся ступить ангелы - Эдвард Форстер» от автора - Эдвард Форстер:
Комментарии и отзывы (0) к книге "Куда боятся ступить ангелы - Эдвард Форстер"