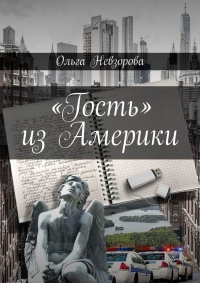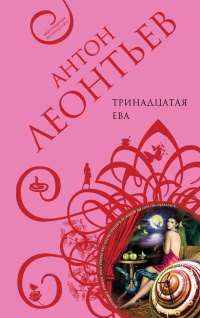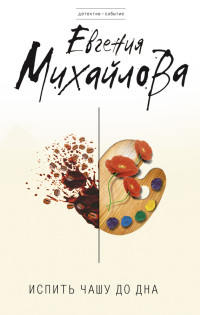— Когда тебе сорок три, о таком задумываются еще меньше.
— Ты о чем это?
— С тех пор как ты съездил на виллу, Юнфинн, ты сам не свой. Не стану утверждать, что я знаю тебя, как свои пять пальцев, но прежде я тебя таким не видела. Если тебе сложно говорить об этом, то давить я не буду, но я просто прошу тебя все обдумать, — может, ты вспомнишь что-нибудь, какую-нибудь зацепку, которая поможет раскрыть эту тайну, которая всплыла только сейчас, спустя много лет.
— Ты хочешь сказать — не тайну, а ложь.
— Ну, хорошо, ложь… — Увидев, что он не хочет больше ничего говорить, она спросила: — Не хочешь об этом?
Он покачал головой. Ему было не по себе. Он хотел быть с ней честным, не скрывать ничего. Следовало объясниться, это могло помочь ей в работе. Он не хотел причинять ей страдания из-за событий многолетней давности, о которых, как ему казалось, он уже забыл и которые вычеркнул из памяти.
— Я имею в виду ложь о счастливом семействе, — ответил наконец он. — Но ты и сама о ней догадалась. Если честно, Георг Хаммерсенг был авторитарным типом, подчинявшим себе всех вокруг, и в конце концов его родные отвернулись от него. — Валманн вдруг со всей ясностью вспомнил школьный двор с темными пятнами на асфальте, пару лавок, переполненные мусорные баки и вереницу прислоненных к ограде велосипедов. И машину Георга Хаммерсенга, «мерседес» без единого пятнышка на темном лаке, припаркованный прямо напротив входа, где вообще-то парковать машину было запрещено. Три раза в неделю он приезжал туда, дожидался Клауса и отвозил его на тренировки. Бег, легкая атлетика, теннис. Клаус должен был успеть везде, хотя очевидно было, что спорт — не его призвание. — А жена его была эдакая неженка, которая дышала только искусством… — В собственном прекрасном мире (подумал он про себя), и в этом мире, думал он, милая мама Клауса умела улыбаться тебе так, словно именно ты был сейчас для нее самым желанным гостем. Умела слушать тебя так, будто особенно ценила сказанное тобой, умела превращать звуки пианино в весну. («Тебе понравилось, Юнфинн? Это Шопен. Его музыка складывается из чувств, а не из нот…» И его рука ощущает тонкую прохладную ткань ее платья.) Клаус рос между этими двумя. Такого материала могло бы хватить на полдюжины бульварных семейных романов.
— Значит, по-твоему, нет ничего странного в том, что дети уехали из дому и исчезли?
— Лучше задаться вопросом, почему жена тоже не сбежала. — И тут же подумал, что зашел слишком далеко. Произнося эти слова, он словно оскорбил что-то в своем сознании. Вдобавок он еще и расстроился оттого, что ведет себя глупо, нелогично и неумело.
— Почему она не уехала? — Его собственный вопрос, как бумеранг, вернулся к нему.
— Она заболела. Состояние ее ног ухудшалось, операции делали все чаще и чаще. В конце концов она стала инвалидом.
— Но он исправился и ухаживал за ней?..
— Знаешь, в то время я не особенно общался с их семейством.
Валманн положил нарезанный батон в корзинку для хлеба и снова не знал, чем занять руки.
— Это действительно так?
Они стояли лицом к лицу. Она не сердилась, но настроена была решительно. Хладнокровно и решительно. Он заметил внутреннее напряжение за ее жестами и выражением лица. Он принял решение.
— Вы осмотрели подвальный этаж?
— Да, конечно. Ох, вспомнить страшно…
— Мастерскую тоже?
— Ну, там мы не каждое полено осмотрели.
— Зря. Потому что именно там лежит прекрасное старое пианино Лидии Хаммерсенг, распиленное на щепки — ох, прости, не на щепки, а на лучины.
— Не может быть!
— Пианино просто так не пропадает из дома, где обожают музыку. — У него дыхание перехватывало уже при одном упоминании о «доме, где обожают музыку». Ему следовало выбирать другие выражения, но было поздно. Назад пути не было. — Хаммерсенги никогда не испытывали денежных затруднений, которые могли бы заставить их продать пианино. Я все думал об этом… — продолжал он, запнувшись. Он был похож на бегуна, который взбирается на крутой склон и, тяжело дыша, смотрит в одну точку. — Мне нужно было прояснить все. Нужно было… — он пытался встретиться с ней глазами, но она не отрывала взгляда от плиты, — нужно было съездить туда и выяснить, если угодно. И я обнаружил его в подвале, как я уже сказал, распиленное… А дальше, дальше, я попытался понять почему. Попытался представить себе охватившую его — а это его рук дело — ярость и ненависть, которые довели до этого… Что заставило человека, вечно утверждавшего, что он любит музыку, уничтожить дорогостоящий инструмент, сжечь его, разломать? Знаешь, Анита, это равносильно убийству. Словно там, в мастерской, он убил свою жену, разрубил ее, поломал на куски…
А следующей мыслью, не озвученной, была такая: «Интересно, что он сделал, чтобы убить ее саму? И сколько времени ему на это понадобилось? И зачем?!»
— Ты был там! — Она наконец нарушила тишину, и в ее голосе звучала смесь возмущения и удивления. — Ты там был и вынюхивал!!
— Я должен был, Анита. — Он пристально смотрел на нее, словно хотел загипнотизировать и заставить понять. Ему хотелось, чтобы она поняла всю серьезность, всю силу, которая заставила его. Но притронуться к ней он побоялся из страха, что его оттолкнут. — Мне не хотелось, поверь мне, но я должен был! — Он заметил, что она собирается возразить, и поэтому продолжил: — Я проезжал мимо, это получилось… почти случайно. Я не сделал ничего плохого. Я только зашел в подвал. Я и прикасался-то лишь к паре досок — это панели от пианино, на которых написано название. Анита, я когда-то сидел за этим инструментом. Лидия Хаммерсенг предлагала мне брать уроки, она сказала, что у меня хороший слух и отличные данные… — Рассказывая, он вспомнил дыхание другого, прекрасного мира, в котором родители вежливо разговаривают с детьми и вместе музицируют в светлых, со вкусом обставленных комнатах. Мира, в котором таким, как он, делать нечего. Мира, который сейчас, спустя много лет, оказался иллюзией, искусно построенной декорацией. Он только не понимал пока, к какой именно пьесе.
— Ну, ты даешь, Юнфинн. — Ее раздражение исчезло, и теперь она казалась потерянной, даже усталой. Должно быть, он, несмотря ни на что, все же достучался до нее. — Никогда бы не подумала, что ты способен на такое.
Он не понял, говорит ли она об игре на пианино или о его проникновении на место преступления, или обо всех его недомолвках. Вообще-то это не имело никакого значения.
— Я и сам не ожидал этого, Анита, — ответил он, — я и сам не ожидал… — Вымотанные, они все еще стояли возле разделочной стойки, словно у них не хватало сил дойти до стола и сесть. — Может, поедим немного салата? — Он отчаянно попытался вернуться к их нормальному состоянию, обрести безопасность в обыденном. Она было подняла миску с салатом, но тут же поставила ее обратно на стойку, будто боялась уронить ее.
— Поедим, пожалуй, — ответила она, не глядя на него. Она смотрела на куриный салат так, словно ни за что не съела бы сейчас ни крошки.