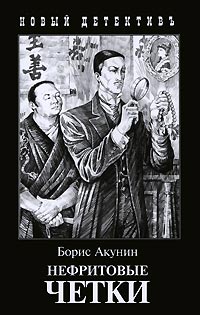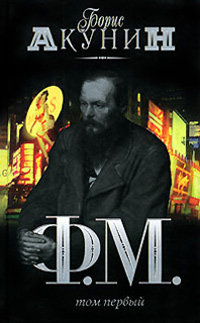несколько раз? В каком смысле «веселей»?
Спрашивать сопровождающего было бесполезно. Молодой человек сразу сказал, что на все вопросы ответят в Москве, а его дело только встретить и «проконтролировать посадку на поезд». Всем своим каменным видом он демонстрировал неприступность. Серьезные сотрудники у генерала Бокия, подумала Мэри и переключилась на окружающее. Верней на окружающих — людей на тротуарах, потом на вокзале, потом в поезде. Люди намного интересней зданий и своим видом рассказывают о стране больше, чем архитектура.
Первые впечатления от России, где Мэри не была двадцать четыре года, были озадачивающие. Конечно, за это время очень изменилась вся Европа (Америка меньше), но тут, в России, кажется, произошли не просто перемены, тут полное замещение человеческой фауны. Будто прежних россиян сдуло ураганом и вместо них принесло совсем других. Дореволюционные обитатели делились на «чистую публику», внешне не отличавшуюся от нью-йоркской или лондонской, и простонародье, примерно такое же, как на Сицилии или в Португалии, разве что побольше бородатых и у баб на головах платки. Теперь же люди европейского вида совершенно исчезли. Даже у тех, кто носил шляпу и пиджак с галстуком (на улицах таких было немного — всё больше подпоясанные рубахи навыпуск и кепки), лица, как нечищенный картофель — землистые и грубые. И почти у всех мрачные, озабоченные. Сразу видно: питание здесь скудное и нездоровое, а жизнь тяжелая. Правда, пройдя через плацкартные вагоны экспресса «Красная стрела», Мэри увидела и две веселящиеся компании. В одной, сплошь мужской, пили водку и грозно пели про каких-то псов-атаманов. В другой, молодежной, пили пиво и пели: «Если завтра война, если враг нападет». Веселье и у тех, и у других было шумное, но какое-то преувеличенное — чересчур заливистый хохот, слишком громкие крики. Словно люди демонстрируют себе и окружающим, что жить стало лучше, жить стало веселей.
В воздухе явно витало безумие. Нечто подобное Мэри ощутила, когда в прошлом году была в Германии. Богатая еврейская семья, перебравшаяся в Штаты, наняла агентство вывезти семейные драгоценности, спрятанные в тайнике — на выезде евреев раздевали донага, изымали всё ценное. Особняк теперь занимал гауляйтер, так что пришлось повозиться. Мэри провела в Берлине больше недели, насмотрелась всякого.
Немцы безусловно тоже свихнулись, но по-другому. Гитлер накачал Германию, как воздушный шар, спесью и комплексом превосходства. Сталин же русских, наоборот, будто скомкал и придавил. Немцы раздутые, русские сдутые. Те надувают щеки и пучат глаза, эти поджимают губы и смотрят исподлобья. Но злоба и агрессия совершенно одинаковые, даже когда натужно веселятся. «С нами Сталин родной, и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов». Кто поет такое в веселой компании? А берлинцы в пивной распевали хором «All diese Heuchler, wir werfen sie hinaus, Juda entweiche aus unserm deutschen Haus!»[5].
Особенно грустно было смотреть на советских женщин. Природные данные отличные, но как же скверно они одеваются, как неухожены, как уродуют себя! Даже молоденькая переводчица, хорошенькая натуральная блондинка, работающая в большой туристической компании, нарядилась в жуткий блейзер ядовито-розового цвета (при темно-зеленой юбке!) и подстрижена по моде пятилетней давности. Эта прическа совершенно не шла юному свежему личику.
— Славная девочка эта Рози, — сказала Пруденс, когда они с Мэри остались вдвоем. — Как трогательно она кинулась меня защищать от этой неандерталки из 618-го.
На «черном американском» ассистентка разговаривала только на публике, из расовой гордости. Пруденс Линкольн знала одиннадцать языков и имела две докторских степени, по физике и по химии. В агентстве она ведала всей технической сферой. Некоторые ее штуковины, если их запатентовать, сделали бы изобретательницу миллионершей, но Пруденс была равнодушна к деньгам. Ей нравилось жить интересно, а в «Ларр инвестигейшнз» скучать не приходилось.
Одну из самых простых своих разработок, «саундпруф-кавер», Пруденс развернула, накрыла с головой их обеих. Понятно ведь, что в номере прослушка, а тонкая, но плотная синтетическая ткань не пропускает наружу ни единого звука.
Мэри втянула под чехол и саквояж, заглянула внутрь.
— Волосок надорван. Ни одной купюры, однако, не утащила. Не воровка — чекистка. Но очень славная, ты права.
— Запомни: 1863, — сказала Пруденс. — Год отмены рабства. Ячейка 18. Удачно, что у них тут автоматическая камера хранения, прямо как на Сентрал Стейшн. — Прыснула. — Вблизи, нос к носу, ты жутко смешная в этих очках. Похожа на Бетси Тротвуд.
Мэри умела и омолаживаться, и состариваться — в зависимости от обстоятельств. Для поездки в Советский Союз удобнее было второе: старуха привлекает меньше внимания. В паспорте проставлен возраст, очень солидный. Большинство женщин в 63 года так и выглядят. Мэри покрасила волосы в седину, нацепила очки с толстыми стеклами, за которыми глаза выглядят размытыми. Очки были непростые, тоже из арсенала Пруденс Линкольн: без диоптрий, но с изогнутыми, подзеркаленными изнутри линзами. Они обеспечивали задний обзор без поворота головы. Благодаря им по пути от вокзала к отелю Мэри срисовала «хвоста»: лысого мужчину, которого приметила еще в поезде.
— Какую еще Бетси Тротвуд? — спросила Мэри.
— Дремучая ты все-таки. Даже Диккенса не знаешь.
— В детстве мать читала мне только русские книжки. А потом было не до книжек. Это ты у нас читательница. Ладно, к черту литературу. Обсудим ситуацию. Что-то случилось. Барченко вдруг передумал со мной встречаться.
— Или записку писал не он. Давай-ка проверим.
Пруденс вылезла из-под чехла. Вынула ящичек с походной лабораторией, стала колдовать над запиской и лондонской бумажкой с адресом. Помощница была виртуозом дактилоскопии, умела снимать отпечатки с любой поверхности и анализировала их лучше любого полицейского эксперта.
Работая, без умолку болтала — для прослушки.
— Интересно, что в новых зданиях Москвы господствует поздневенецианский классицизм. Как будто всех здешних архитекторов покусал Палладио. Американское посольство по правой стороне площади, которое наша славная Роза гордо назвала «шедевром советского зодчества», — вылитый Палаццо дель Капитаниато в Виченце. Перед поездкой я надеялась, что здесь будет сплошной конструктивизм, Корбюзье-Шмарбюзье, а они увлекаются архаикой…
Мэри не слушала. Думала: как там Эдриан и Масянь?
Снова накрылись «саундпруфом».
— Лондонский листок брали в руки двое. Твой указательный и большой я знаю. На правом и левом нижних углах отпечатки другого человека. Так держат листок, когда вручают его почтительно, обеими руками.
Мэри потерла родинку, включила «кино», кивнула.
— Так и было. Барченко вручил мне бумажку торжественно, с поклоном.
— Теперь записка. Некто, назову его «Номер 1», мужчина, писал текст. Придерживал листок всеми пятью пальцами левой руки. «Номер 2», предположительно женщина, брала страницу вот так — очевидно, читая написанное. Отпечатки Барченко отсутствуют.
— Интересно, — сказала Мэри.
— Что будем делать?
— Наведаюсь по адресу. А ты сиди