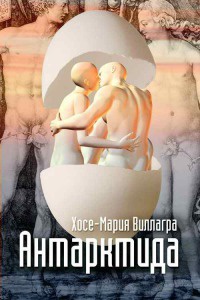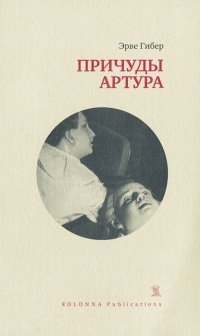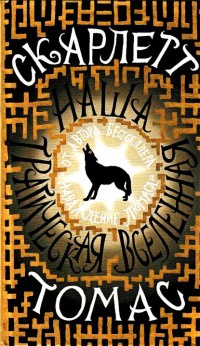Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 48
В этот конкретный миг зимы 67–68-го годов она явно не думает ни о чем, наслаждаясь замкнутой ячейкой, которую они втроем образуют и разомкнуть которую может звонок телефона или стук в дверь. Она не думает об отложенных делах, основным предметом которых является функционирование этой ячейки: список покупок, стирка, «а что сегодня на ужин», беспрестанное упреждение близкого будущего, которое усложняет внешнюю часть ее обязанностей — работу преподавателя. В моменты, проведенные с семьей, она ощущает, она не думает.
Мысли, которые кажутся ей настоящими, приходят, когда она одна или гуляет с сыном. Настоящие мысли, по ее мнению, — это не про чью-то манеру говорить или одеваться, или высоту поребрика по сравнению с колесами сидячей коляски, или запрет «Ширм» Жана Жене, или войну во Вьетнаме, но вопросы о себе самой, про «быть и иметь», про человеческое существование. Это погружение в мимолетные ощущения, которыми невозможно поделиться с другими, — все то, что, будь у нее время писать, стало бы материалом ее книги. В дневнике, который она открывает очень редко, как будто он представляет какую-то угрозу для этой семейной ячейки и у нее нет теперь права на внутреннюю жизнь, она записала: «У меня теперь вообще нет мыслей. Я больше не пытаюсь объяснить свою жизнь» и «Я — самодовольная мещанка». Ей кажется, что она отклоняется от прежних целей, что живет только для материального продвижения вперед. «Я боюсь врасти в эту размеренную, удобную жизнь, боюсь прожить ее, не осознавая в полной мере». Но формулируя это, она понимает, что не готова отказаться от всего того, что никогда не упоминается в дневнике: от совместной жизни, от сближенности в едином пространстве, от квартиры, куда она спешит вернуться сразу после уроков, от сна вдвоем, от утреннего жужжания электробритвы, от сказки про трех поросят на ночь, от однообразия, которое она вроде бы ненавидит и к которому так привязалась, что даже разовое трехдневное отсутствие для сдачи квалификационного экзамена рождает острое чувство нехватки — и мысль, что все это может куда-то исчезнуть, сжимает сердце.
Она больше не мечтает о себе, как прежде: вот она на пляже следующим летом, вот она писатель, у которого вышла первая книга. Будущее выражается в точных материальных понятиях: хорошая должность, продвижение по службе и крупные покупки, устройство ребенка в садик — это не мечты, а планы на будущее. Она часто оглядывается назад, возвращается к образам времени, когда жила одна, и видит себя на улицах городов, по которым ходила, в комнатах, где жила, — в общежитии для девушек в Руане, домашней помощницей в Финчли, на каникулах в пансионе на улице Сервилио Туллио — в Риме. Ей кажется, там еще живут какие-то ее «я». Прошлое и будущее, в общем-то, поменялись местами, и теперь прошлое, а не будущее стало объектом желаний: вернуться в эту римскую комнату лета 63-го года. У нее в дневнике: «Усилием крайнего нарциссизма я могу увидеть прошлое, записать его черным по белому и стать иной, не теперешней» и «Мне не дает покоя какой-то образ женщины. Возможно, стоит искать в этом направлении». На картине Доротеи Таннинг, увиденной три года назад на парижской выставке, была нарисована женщина с обнаженной грудью и за ней — анфилада открытых дверей. Называлась картина «День рождения». Ей кажется, что эта картина изображает ее жизнь, что внутри — она сама, как раньше она была в «Унесенных ветром», в «Джен Эйр», позднее — в «Тошноте». С каждой прочитанной книгой — «На маяк» Вирджинии Вулф, «Световые годы» Сержа Резвани — она задается вопросом, сумеет ли сама вот так рассказать свою жизнь.
На секунду вспоминаются образы родителей в маленьком нормандском городке: мать снимает передник, чтобы идти к вечернему благословению, отец возвращается из сада к дому с тяпкой на плече — замедленный мир, который продолжает существовать призрачней кинофильма — далекий от мира, частью которого она стала: современного, развитого, идущего вперед, трудно сказать к чему.
Между тем, что происходит в мире, и тем, что случается с ней, — ни единой точки пересечения, две параллельные серии, одна абстрактная, она целиком состоит из сведений, которые приходят и тут же забываются, другая — застывшие кадры.
В каждое мгновение наряду с тем, что кажется людям естественным делать и говорить, наряду с тем, что предписывается думать: книгами, плакатами в метро и даже шутками и анекдотами, — существует то, о чем общество умалчивает, игнорирует как факт, обрекая на одинокий дискомфорт тех мужчин и женщин, которые это ощущают и не могут назвать. Молчание однажды оказывается нарушено, внезапно или постепенно, и слова проливаются на то, что наконец получает признание, а тем временем новые зоны молчания смыкаются в глубине.
Позднее журналисты и историки будут охотно вспоминать фразу колумниста «Монда» Пьера Виансон-Понте, опубликованную за несколько месяцев до мая 68-го: «Франции скучно!» Легко можно вспомнить тусклые картинки собственной жизни, полные какой-то вековечной угрюмости, воскресенья перед телеэкраном с Анн-Мари Пейсон, и верится, что так текла жизнь и у всех других, — застывший в однообразной серости мир. И телевидение, транслируя неизменный изобразительный ряд с ограниченным набором героев, словно устанавливает раз и навсегда несменяемую версию событий, диктуя ощущение, что всем в тот год было от восемнадцати до двадцати пяти, и все швырялись булыжниками в спецназ, прикрыв рты носовым платком. Повторение кадров, снятых на фотоаппараты и кинокамеры, словно вытесняет образы собственной истории того мая, где не было ничего примечательного: пустая воскресная привокзальная площадь, ни пассажиров, ни газет в журнальном киоске; и ничего героического: испугались, что пропадут деньги (и поспешили снять их с банковского счета), что исчезнет бензин и, главное, продукты, — и, повинуясь наследственной памяти голода, накупили их полную тележку в супермаркете «Каррефур».
Стояла обычная весна, апрель с ливнями и градом и поздняя Пасха. Трансляция зимних Олимпийских игр с Жан-Клодом Килли, чтение романа Клер Эчерли «Элиза, или Настоящая жизнь», гордость от смены малолитражки на большой «Фиат», начало преподавания в старших классах — вольтеровский «Кандид» с 1-м G, и только на периферии внимания — волнения в парижских университетах, о которых говорили по радио. Их, как обычно, усмирят власти.
Но Сорбонна закрылась, письменную часть квалификационного экзамена отменили, шли столкновения с полицией. Однажды вечером мы услышали прерывистые голоса по радио «Европа-1»: в Латинском квартале баррикады, как в Алжире десять лет назад, бутылки с зажигательной смесью и раненые. Тут пришло осознание того, что происходит что-то необычное, и уже не хотелось назавтра возвращаться к обычной жизни. Мы нерешительно подходили друг к другу, собирались в группы. Прекращали работу без конкретного повода или требований, словно заразившись от других, потому что невозможно что-то делать, когда возникает непредвиденное, можно только ждать. Что случится завтра, мы не знали, да и не пытались угадать. Будет другое время.
Мы, так по-настоящему и не встроившиеся в трудовой процесс, не стремившиеся по-настоящему к обладанию тем, что покупали, — узнавали себя в младших сверстниках-студентах, которые бросали булыжники в спецназ. Это от нашего имени они швыряли в лицо власти не булыжник, а годы цензуры и гнета, жесткое усмирение демонстраций против войны в Алжире, карательные операции в Африке, запрет «Монахини» Риветта и черные лимузины официальных лиц. Они мстили за нас, за всю подавленную силу нашей юности, за почтительную тишину в аудиториях, за позорное протаскивание парней в комнаты женских общежитий. В нас самих, в наших подавленных желаниях, в нашей унылой покорности коренилась поддержка пылающих вечеров Парижа. Жаль, что все не случилось гораздо раньше, но здорово, что мы пережили это в начале жизненного пути.
Ознакомительная версия. Доступно 10 страниц из 48