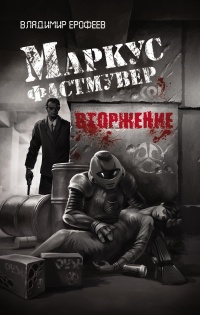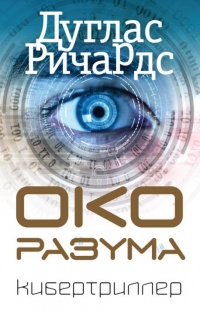Та вернула поклон, бросила нервный взгляд на Данло и удалилась по коридору. Данло прошел за Тамарой в комнату, и дверь за ним закрылась, лязгнув металлом. В комнате стояли растения родом со Старой Земли – араукарии, кактусы, алоэ и другие, которых он не знал. Они освежали воздух, насыщенный исходящим от Тамары запахом пота. Здесь было слишком жарко для ее парадного одеяния, но она явно не считала удобным принимать Данло в пижаме или раздетой, как делала раньше, а он чувствовал неловкость оттого, что не мог не смотреть на красные обмороженные участки ее кожи.
– Тамара, Тамара, – сказал он. – Я искал тебя… искал повсюду.
– Мне очень жаль. Если бы я знала… Что вам предложить – чаю или морозного вина? Прошу вас, присядьте.
Уютная комната была ярко освещена и приспособлена для нужд пожилых женщин. Здесь стояла настоящая кровать, застланная вязаным шегшеевым покрывалом, туалет помещался в кабинке со стальными поручнями, домашний робот приносил нужные вещи с полок и столиков. У выходившего во двор окна стоял чайный столик и два стула с высокими спинками.
Тамара и Данло сели на них лицом друг к другу. Он предпочел бы устроиться на ковре у камина – неужели Тамара и это забыла?
– Извините, – сказала она, сцепив руки, – но разговор у нас будет не из легких. У вас передо мной преимущество. Мне столько рассказывали о вас, а я ничего этого не помню.
– Совсем ничего?
– Абсолютно.
Он недоверчиво посмотрел на нее. Его дыхание участилось, и ему померещилось, что волосы встают дыбом у него на затылке. Грудь сдавило, в горле стоял огненный ком, который нельзя было проглотить. Он надеялся, что Тамара, увидев его, что-то вспомнит – так внезапный порыв ветра оживляет в памяти веселые ночи у горючих камней, дружеские беседы и любовные игры. Он отчаянно надеялся на это – и она, как видно, тоже. Все ее милое подурневшее лицо выражало эту надежду. Она явно ожидала найти в его глазах что-то знакомое и утешительное, потому что внезапно отвела свои, потемневшие от горького разочарования. Он понял, что ничего не вышло, и от этого понимания ему захотелось закричать и вырвать собственные глаза. Они должны были узнать друг друга, как произошло в их первую встречу и происходило во время всех последующих встреч! Если бы даже они оба потеряли память, то должны были почувствовать, что знают друг друга миллион лет и не расстанутся еще миллионов десять. Но ничего этого не случилось. Глядя на Данло, Тамара его не видела. Что-то в ней (а может быть, и в нем) ослепло.
Ее ослепили, подумал Данло, и в нем вспыхнула ярость на вселенную, где могла произойти такая трагедия.
– Пилот, вам нехорошо?
Он сидел на своем мягком стуле, прижав к голове костяшки пальцев. Справившись кое-как с дыханием и обретя зрение, он выдавил из себя:
– Ты права… это будет нелегко.
– Могу себе представить, как это для вас болезненно.
– А ты… ничего такого не испытываешь?
– Нет, не думаю. Я чувствую только пустоту. Зато вы… что может быть больнее воспоминаний?
Он с улыбкой затряс головой.
– Все, что я помню о нас с тобой, благословенно. Это правда. Рассказать тебе?
– Говорят, у вас превосходная память.
– Мне бывает трудно что-то забыть.
– Хорошо, расскажите.
Он сглотнул три раза и начал:
– Ты научила меня одной игре – это телепатическая техника, напоминающая чтение лиц, и все-таки совсем другая. Нужно открыть свои клетки сигналам клеток другого. Это делается после любви – надо просидеть полночи в позе лотоса, неотрывно глядя друг другу в глаза, и тогда твои клетки становятся моими. Я становлюсь тобой. Мы проделали это однажды, помнишь? Был девятый день зимы, всю ночь шел снег, а утром ты поцеловала меня и сказала…
– Не надо, – вскинув руку, попросила Тамара.
– Мы нашли место, где мысли струятся, прежде чем превратиться в слова. И наши мысли полночи были одинаковыми. Как две реки, текущие рядом, без слов и без конца. Когда пришло утро, ты сказала мне одну вещь, которую только я…
– Пожалуйста, не надо больше.
Панические ноты в ее голосе остановили его.
– Но почему?
– Я решила, что вам лучше ничего мне не рассказывать.
– Но должна же ты знать. Ведь это ужасно, когда не знаешь.
– Конечно, я хочу знать. Но слушать очень утомительно. Я хочу вспомнить сама, если этому вообще суждено случиться.
– Я как раз этого и хотел – помочь тебе вспомнить.
– Вряд ли кто-то может помочь мне после того, что произошло.
– Такие способы есть. Память никуда не девается – она продолжает струиться, как свет. Мы сами закрываем перед ней двери и, оставаясь зрячими, сидим в темных комнатах. Это и называется «забывать».
– Есть двери, которые навсегда остаются запертыми.
– Неправда. Любую дверь можно открыть. Главное – подобрать ключ.
– Хотела бы я в это поверить. Хотела бы обладать вашей верой.
– Ты говоришь, что у меня есть вера, – улыбнулся он, – а ведь меня обвиняют в безверии.
– Неужели?
– Разве ты не помнишь?
– Тогда вы должны быть самым верующим из всех неверующих.
– Ты и раньше говорила мне то же самое.
– Правда?
– Да. Мне кажется, ты начинаешь вспоминать.
– Нет, просто наблюдаю…
– Всего лишь?
– Если я что-то и вспоминаю, то только вещи, которые говорили о вас другие.
– Ты уверена?
– Право же, это очень утомительно, – холодно ответила она.
– Извини. Теперь уже поздно, и…
– Дело не в этом. Просто на мне уже испробовали все эти мнемонические штучки, и они не помогли.
– К тебе приходил мнемоник?
– Да, Томас Ран – я думаю, вы хорошо его знаете. Он был здесь сегодня утром.
– Искал ключи?
– Ну да, ведь мнемоники именно этим и занимаются. Он пробовал ключевые слова, обонятельную технику, гештальт, ассоциативную память. Даже показал мне симуляцию, составленную каким-то анималистом – мы с вами вдвоем. Что-то вроде шока, чтобы пробудить память. Меня это действительно шокировало, но не так, как было желательно мастеру Рану.
Данло кивнул, и его взгляд случайно упал на чайный столик, черный и отполированный, как обсидиановое зеркало, но слегка захватанный пальцами. Там виднелось его слабое, полное беспокойства отражение. Вид собственного лица обычно забавлял Данло, но эта физиономия, потрясенная увечьем Тамары, не нравилась ему, и он прикрыл ее голой ладонью. По столешнице тут же побежали индиговые, светло-зеленые и красные полосы. Это, вероятно, было самумское изделие, прибор, с помощью которого цефики читают простейшие эмоции. Поверхность стола, сделанная из чистого мерцальника, переливалась самыми экстравагантными красками, словно глаза скутари. Потом она остановилась на одном цвете, самом неприятном из всех оттенков желтого. Данло не знал, какие цвета что обозначают, но то, что он испытывал в настоящий момент, было смесью досады и отвращения.