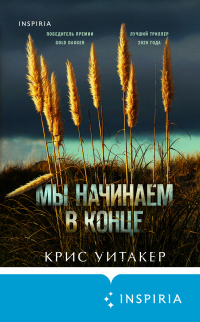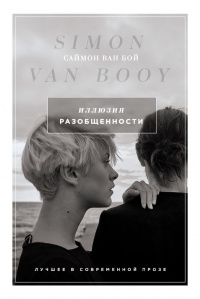Джордж проснулся рано утром. Было еще темно. Винный магазин открывался только через несколько часов. Он полистал поэтический сборник, лежавший на ночном столике.
«Есть лишь одна-единственная женщина в мире. Единственная и многоликая».
Затем встал и съел несколько холодных картофелин с йогуртом, лимонным соком и луком.
Он написал имя Ребекки на древнегреческом и приклеил его к холодильнику. Он даже пробовал написать ей пару поэтических строк и хранил их в наволочке вместе с заначкой – пачкой сигарет и поздравительными открытками ко дню рождения, которые отец посылал ему каждый год до его семнадцатилетия.
Джордж распечатал плитку шоколада. Думал, от сладкого полегчает. Когда ты трезв, тяжко жить в мире, где тебе все так дорого. Точно верный поборник некоей темной религии, он часто обливался слезами, когда чувствовал, как на него нисходит божественное откровение, – подобно дождю, бьющему в окна, или запаху яблок, или голосу отца, читающему своему ребенку книжку в парке; подобно стае вспархивающих птиц, мельканию и грохоту проходящего поезда и безмолвной красоте ликов.
А выпивка вымывала весь этот бред. Упрощала его мироощущение. Залив глаза, он свободно исследовал землю, не думая о каждом прожитом мгновении как о последнем.
За окном над его кроватью небо сделалось тускло-голубым – значит, скоро рассвет.
Где-то там, на другом конце города, среди тысяч бьющихся сердец есть одно – желанное.
Поразмыслив, Джордж решил, что все уж больно затянулось и придется ему протопать несколько миль через все Афины до ее дома, – там он перекурит, хлебнет узо из бутылки, которую купит, дождавшись открытия магазинов, и представит себе, как чудесно, стоя внизу, упиваться ее сонным образом на балконе.
А может, он позвонит ей в дверь и сбежит (если будет не слишком пьян). Он представил себе, как спрячется в кустах, а она выбежит на улицу поглядеть, кто это еще к ней заявился.
Джордж взял в привычку, уходя из дома, оставлять включенным все, что только можно: свет, радио и даже душ, который однажды, по пьяной лавочке, он забыл выключить, когда вернулся. Он нашел без труда ключи и достал из ящика стола подарочный сертификат, который отец оставил ему в оранжевом конверте с гравировкой в виде запряженной в экипаж лошадки. Он решил – пусть это будет милым сюрпризом, знаком извинения на тот случай, если его обнаружат.
Лифт, пока спускался, дробно постукивал, и это напомнило Джорджу стук каблуков директора интерната, прохаживающегося по высоким сводчатым коридорам общежития.
За год до окончания Эксмута единственное истинное удовольствие, кроме переводов древних текстов и музыки, ему доставляло распитие односолодового виски под обелиском, установленным на вылизанной до блеска территории школы. Он любил посиживать там, потягивать спиртное и насвистывать себе под нос Баха. Обелиск прозвали Эксмутским фаллосом. Однажды, набравшись, Джордж обхватил руками этот самый обелиск, у его основания, и возопил:
«Порази меня в самую душу, о великий Эксмутский пенис, раз уж ни один смертный не смеет расправить над нею свои слабые крылья».
Если бы не родительский день, этого никто бы не услышал и у Джорджа не было бы никаких неприятностей.
Великую радость иной раз приносило и холодное утро. Как-то раз перед рассветом, после одной особенно морозной ночи, Джордж брел по объятому белым саваном, спящему саду, окутанный парами собственного дыхания и призрачным сиянием звезд. Подобно шелковой кукле, скользил он по земле, единственный свидетель зарождающегося дня.
Джорджа отдали в интернат, когда ему было семь, – вскоре после того, как распалась его семья.
Перелет из Лексингтона в Бостон прошел без происшествий. Ему принесли фигурное печенье и напиток на выбор (фанту). До аэропорта его подбросил школьный воспитатель по имени Терренс.
Часов около семи утра, когда Джордж добрался до дома Ребекки, в его голове все еще роились обрывки воспоминаний об Эксмуте. По дороге он прихватил выпивки и уже успел изрядно набраться, так что выше второго этажа ничего не различал. Он просто смотрел на ее дом, силясь понять, почему краски расплываются у него перед глазами.
Только когда Джордж наконец осмелился перейти улицу, он смекнул, что разглядывает второй этаж не ее дома, – его взяла досада, и он заснул в соседнем парке.
И бесцеремонно проспал аж до самого обеда.
А пробудившись, в ярком солнечном свете с оглядкой побрел к ближайшей станции метро. Вид у него был помятый, хотя он почти протрезвел. В легких саднило, оттого что обкурился. Точно ветеран, вернувшийся со своей частной войны, он с трудом, неуклюже спустился на платформу.
Подъехал поезд.