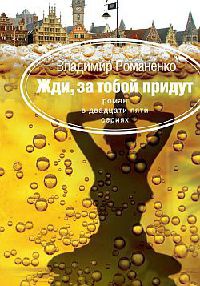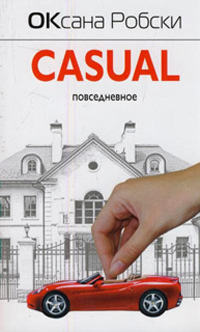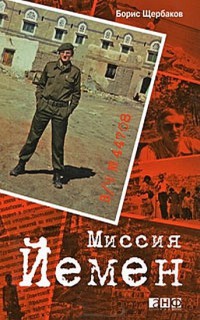Я усаживался поудобнее и доставал какую-то книжку.
Правда, читалось с трудом. Вернее – понималось. Чтобы «врубиться», приходилось перечитывать одно и то же по нескольку раз.
Иногда я зачитывался и без особых проблем переходил со страницы на страницу. Через 20 минут безэмоционального занятия, оторвавшись от, казалось бы, достаточно веселой книги, я понимал, что совершенно не помню, о чем только что читал. Как в настольных играх моего детства, стрелочка возвращала меня на несколько ходов назад, и я начинал все заново.
Подобное чтение имело и определенное преимущество – одной книги хватало надолго.
Парадоксально, как впрочем и все в моей жизни, но в меня легко «зашла» четырехтомная «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси, которую я так и не удосужился прочитать еще на 3-м курсе филфака. Арестант с большим удовольствием витал в облаках, вернее – по долинам и по взгорьям Великой Британии XIX века.
Пребывая за решеткой (или позже – под домашним арестом, а потом и отбывая основной срок) у меня проявились совершенно четкие литературные преференции.
Гламурное чтиво и современные жизнеописания российских белых воротничков, издающиеся в метрополии огромными тиражами, меня, мягко говоря, не вдохновляли. Про детективы – фэнтези – любовь/морковь я вообще и не говорю. Федерального заключенного № 24972-050 однозначно, за небольшими исключениями, тянуло к мировой классике. Во всяком случае, именно от нее я получал хоть какое-то подобие удовольствия. Особенно поначалу, в забеге от реальности.
С гадким растворимым кофе в пластиковой кружке и с книгой на коленях (из которой, как выяснилось, смотрела фига), я тупо разглядывал бесконечный поток авто, движущихся в сторону Манхэттена.
Слева и справа от меня роились разноцветные «веселые ребята», мои новые соседи по заключению. В отличие от черной-пречерной тюрьмы номер один тюрьма номер два отличалась завидным интернационализмом. Как говорил гостеприимец Петр Первый: «все флаги в гости будут к нам».
Это радовало.
Насмотревшись поверх заборов на свободу, я постепенно начинал закипать. От бездействия, безызвестности, бесправия и бессилия у меня начинался легкий мандраж, переходящий в неконтролируемый тремор конечностей и примкнувших к ним тельцу и голове.
В такие моменты я срывался со своего наблюдательного пункта, хватал папки с материалами дела и лихорадочно писал очередные (иногда абсолютно бредовые) пометки для адвоката. Выстраивал линию защиты. Безумная энергия и стресс требовали выхода. Вместо извержения Везувия я бросался к одному из восьми (!!!) телефонов-автоматов и начинал посылать ценные указания всем, кому можно и кому нельзя: семье, адвокату, друзьям, соратникам и просто людям доброй воли.
Всем, всем, всем!
«SOS», cпасите наши души!
Поскольку за звонки платила принимающая сторона (2–3 доллара за минуту, в зависимости от города), то вскоре, после получения первого счета, на меня, как говорили на Брайтоне, «перестали брать трубку». Не все, но многие. Не всякий бюджет мог выдержать полтинник в день.
Круг замыкался. Страсти-мордасти не находили выхода. Психотерапия прерывалась. Враждебное окружение давило. В общем, «все гады и сволочи». Хотелось «рвать и метать». Или на худой конец просто умереть.
Никогда не забуду про свои подлые суицидальные мысли в первые месяцы после ареста. Выйдя наконец под залог на домашний арест, я, как гормональный подросток, элегично подумывал о самоубийстве. Ужас, ужас, ужас…
В один прекрасный день я даже позвонил своему страховому агенту в Metlife, чтобы выяснить, заплатят ли моей дочке, если я уйду из жизни добровольно.
На другом конце провода долго молчали на русском языке с еврейским акцентом. Потом, видимо, переварив вопрос, трубка сказала:
– Ви, навэрное, шутите, маладой чилвек?
Услышав, что нет, она поперхнулась и произнесла:
– Ван сэконд, мне нада перегаврить с супервайзером…
Через десять минут агент раскололся:
– Да! Ми-таки заплатим!
В тот же момент мне сразу же все перехотелось…
…В тюрьме графства Гудзон я впервые увидел, как переговариваются между собой разделенные пространством заключенные. В силу отсутствия «почты-телеграфа-телефона» общение осуществлялось «вручную». Однако это был не язык глухонемых.
Тюремные переговоры напоминали связь матросов-сигнальщиков с мачт каких-нибудь деревянных «Аврор» и «Паллад». Язык жестов связывал братву с прогулочного двора с моими соседями по этажу. Другого общения между двадцатью отрядами не существовало – на совместный променад нас не выпускали. One unit at a time![569]
Уж не знаю как, но при помощи рук преступная ребятня рисовала в воздухе гигантские виртуальные буквы. Такое же безобразие творил порочный ВИА «Village people» при исполнении неофициального гимна американских гомосексуалистов «YMCA» – «Young Men Christian Association»[570]. Каждой букве соответствовало особое положение конечностей. Причем, верхних и нижних, как в барыне или в кадрили какой-то.
Самое удивительное, но собеседники-сигнальщики прекрасно понимали друг друга, а в знак подтверждения «приема» радостно кивали головами или по-кинг-конговски прыгали. Я не понимал ничего. Даже в русскоязычной версии языка жестов.
Моим сокамерником оказался русский нелегал из Краснодара. «Русско-русский», а не «русско-еврейский», как говорили наши иммигранты, желая подчеркнуть этническое происхождение «объекта».
Антона поймали во время выборочной и очень редкой проверки документов на одном из нью-джерсийских хайвеев 11 месяцев назад. После трех гастарбайтерских годин на чужбине мой новый товарищ ожидал депортации к себе на Кубань. Процесс экстрадиции на родину требовал достаточно длительного времени. Даже в случае абсолютного согласия всех сторон: главного героя, иммиграционного судьи, МИДов России/США и «Аэрофлота», предоставлявшего (в обязательном порядке) бесплатные авиабилеты искателям приключений. Тридцатилетний белокожий здоровяк Антон пребывал в приподнятом настроении 24/7. Отпахав на изнурительной строительной шабашке, в компании по перевозке мебели и на русском продуктовом складе, мой компатриот с удовольствием смотрел детективы и возлежал на лежанке. К тому же после пятимесячного молчания российские национальные авиалинии выделили наконец бедолаге билет «до дома, до хаты». Поэтому в назначенный час он вступал в лучезарные махательные диалоги с каким-то нелегальным соотечественником из другого отряда на интересующие их иммиграционные темы, очень далекие от моих грустных рабовладельческих размышлений.
Антоша до бесконечности слушал русские радиостанции из Нью-Йорка («Левка, братан, опять за тебя говорят»), отвлекал меня туповатыми разговорами, вставляя через слово «блин», «супер» и «полная жопа», или нарезал круги по отрядному помещению. Благо размеры каталажки позволяли заниматься долгими аэробными хождениями по периметру «юнита». Было бы желание. У меня оно в то время отсутствовало совершенно.