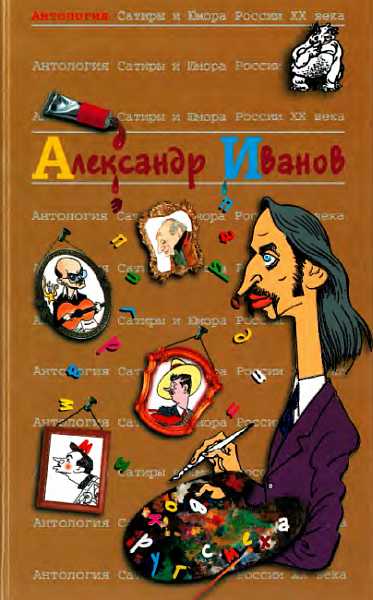нас с тобой, — подсказал Ефим и улыбнулся в трубку.
— Ну что ты, — охладил его тут же Баранов. — Ну какие ж мы с тобой писатели! Мы с тобой члены Союза писателей. А писатели — это совсем другие люди. Им, может быть, дадут что-нибудь вроде лисы или куницы, я в мехах, правда, не разбираюсь. А нам с тобой кролик как раз по чину.
Ефим сознавал, что именно таким образом выглядела иерархия в Союзе писателей, но Баранов все же зарывался, сравнивая Ефима с собой, о чем ему следовало напомнить. Ефим, однако, сдержался и ничего не сказал, потому что Баранов был в общем-то прав. Написав одиннадцать книг, Ефим хорошо знал, что, даже если он напишет сто одиннадцать, начальство все равно будет ставить его на самое последнее место, ему все равно будут давать худшие комнаты в Домах творчества, никогда не подпишут на журнал «Америка», никогда не напечатают фотографию к юбилею, ну и шапку дадут, конечно, самую захудалую. В таком положении были и свои (другим, может быть, незаметные, но Ефиму очевидные) преимущества: ему никто не завидовал, никто не зарился на его место, а он втихомолку продолжал тискать романы о хороших людях.
Поэтому и сейчас он не стал спорить с Барановым и сказал, пусть, мол, за шапки борются те, кому нечего делать, а у него есть своя шапка, волчья, ему в прошлом году подарили оленеводы.
Положив трубку, он вынес телефонный аппарат в другую комнату и накрыл его подушкой, чтоб не мешал. Вернулся к машинке и, впав в некий раж, стал быстро-быстро стучать по клавишам, не соображая, что пишет. А писал он вот что: «В Литфонде писателям дают шапки. Может быть, это даже хорошие шапки, но мне они не нужны. Потому что у меня есть своя шапка. У меня есть очень хорошая шапка. У меня есть волчья шапка. Она теплая, она мягкая, и никакая другая шапка мне не нужна. Пусть другие борются за шапки.
Пусть за шапки борются те, кому делать нечего. А мне есть что делать, и шапка у меня тоже есть. У меня есть совсем новая волчья шапка. Она мягкая, она теплая, она хорошая. А ваша шапка мне не нужна, можете оставить ее себе, можете ее скушать, можете ею подавиться, если не сможете ее прожевать».
На этом месте он сам себя остановил, перечитал написанное и удивился. С ним и раньше бывало, что он писал, находясь как бы не в себе, но обычно это все-таки имело какое-то отношение к разрабатываемому сюжету. А тут получилась какая-то чепуха. Выкривив обе губы в выражении, означающем крайнюю озадаченность. Ефим покачал головой и сунул лист под кипу лежавших справа от машинки старых черновиков. Именно этот текст даст впоследствии повод критику Сорокину сказать, что талант Рахлина не был оценен по достоинству. Но надо сказать, что и сам Ефим свое сочинение тоже не оценил. Поэтому, вставив новый лист, он опять принялся сочинять что-то про капитана Коломийцева, который стоял на штормовом ветру и придерживал рукой шапку, чтоб не слетела.
Он заметил, что опять написал слово «шапка» неосознанно. Разозлился на себя, шапку вычеркнул и вписал фуражку с выцветшим «крабом».
«Капитан Коломийцев стоял на штормовом ветру и придерживал рукой форменную фуражку с выцветшим «крабом».
Это было значительно лучше. Но одного капитана Ефиму было мало, надо было сразу же вводить в действие главного героя, который проходил как раз (зачем проходил, Ефим еще не придумал) мимо капитана Коломийцева.
— Доктор! — окликнул его капитан.
— К вашим услугам, сэр! — весело откликнулся доктор и по привычке старого интеллигента приподнял шапку».
«Тьфу!» — сплюнул Ефим и в досаде хлопнул себя по колену. Да что ему дались эти шапки!
Он вынул и этот лист и собирался заправить следующий, когда раздался телефонный звонок.
— Слушай, — сказал Баранов, — я твою «Лавину» прочел, это гениально.
Такого Баранов еще никогда не говорил, Ефим просто опешил и не знал, что сказать. Впрочем, он тут же заподозрил, что в оценке содержится какой-то подвох, и переспросил Баранова, что он имеет в виду.
— Я имею в виду твой роман «Лавина», — повторил Баранов.
— Но ведь ты же двадцать минут назад сказал, что ты роман не читал.
— Двадцать минут назад я его не читал, а теперь прочел.
— Баранов, — застонал Ефим, — оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я по утрам работаю. («В отличие от некоторых», — хотел добавить он, но не добавил.)
— Ну, смотри, как хочешь, — сказал Баранов. — Я хотел тебе высказать свое мнение… Дело в том, что роман талантливый…
Все-таки произнесенный эпитет звучал так заманчиво, что, даже предчувствуя каверзу, Ефим трубку не положил.
— Роман гениальный, но сильно затянут, — гнул свою линию Баранов.
— Почему же это затянут? — насторожился Ефим.
— Ну вот давай разберем. Возьмем самое начало:
«День был жаркий. Савелий Моргунов сидел за столом и смотрел, как жирная муха бьется в стекло». Потрясающе!
— Ну да, это у меня неплохо получилось, — застеснявшись, признал Ефим.
— Не неплохо, — стоял на своем Баранов, — а потрясающе! Великолепно! Но слишком мрачно.
— Мрачно?
— Очень мрачно!
Эта оценка была приятна Ефиму, потому что в глубине души он всегда хотел написать что-нибудь мрачное, а может быть, даже непроходимое.
— Ужас как мрачно, — повторил Баранов. — Но на этом надо и кончать. И так все понятно. Лето в разгаре, солнце в зените, жара невыносимая, а окна закрыты. Савелий сидит, муха бьется в стекло, пробиться не может. Савелию жарко. Он изнывает. Он смотрит на муху и думает, что он вот так же, как эта муха, бессмысленно бьется в стекло. И ничего не выходит. А к тому же жара. Он сидит, потеет, а муха бьется в стекло. Кстати, он кто, этот Савелий?
— Прораб, — осторожно сказал Ефим.
— Так я и думал. Тем более все ясно. Жара стоит, муха бьется, прораб потеет. Материалов не хватает, рабочие перепились, начальство кроет матом, план горит, премии не будет. Прораб потеет, настроение мрачное, муха бьется в стекло. Он понимает, что жизнь не удалась, работа не клеится, начальство хамит, жена скандалит, сын колется, дочь проститутка.
— Что ты за глупости говоришь! — завизжал Ефим тонким от оскорбления голосом. — Кто колется? Кто проститутка? У меня нет никаких проституток.
— Да что ты расшумелся, — сказал Баранов. — Какая разница, кто у тебя есть, кого нет. Я так додумал, довообразил. Ты должен читателю доверять, оставить ему простор для фантазии. Зачем же ты пишешь шестьсот страниц, когда все ясно с первой строки?