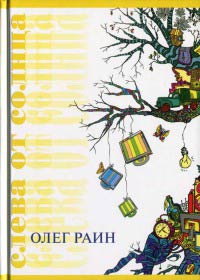Порой он думал о тех, кто здесь прогуливался, как и он, смотревших на летающих среди листьев птиц, на упавшие на землю гранаты и айву, яблоки, апельсины, на цветы…
Тиберий, Калигула, Клавдий, Друз… Но чаще он бездумно глядел на лавры и померанцы, кедры и кипарисы, олеандры и вовсе не известные ему деревья, разглядывал птиц, белых, золотистых, красноперых, с красной шапочкой на головке, любовался цветами – вот ромашки, розы, акант, – сколько раз в своей жизни он рисовал гипсовые листья аканта, не подозревая, что акант не выдумка, а живое, настоящее растение… Он сидел, уронив руки, и порой прикрывал глаза, чувствуя, что на сердце его нисходит редкостный покой и что сам он становится частью этого волшебного, зачарованного сада.
* * *
Считается, что к старости горизонт человека сужается, скукоживается, как усохшая фига, и художник Каминка был лучшим примером справедливости такового утверждения.
Энтузиаст походов, намотавший тысячи километров путешествий по Средней Азии, Кавказу, Крыму, Средней полосе, своими ногами проутюживший мостовые десятков городов, перебравший все виды транспорта, от тряского грузовика в Армении до верблюда на Синае, в последние годы он ссутулился, замкнулся, всему на свете предпочитая обжитое родное пространство. Его жизнь протекала по маршруту: дом, мастерская, Академия, дом. Изредка, оказавшись в центре города, он с удивлением обнаруживал новые здания, магазины, кафе… Однажды, встретившись на променаде Бен Иегуда с коллегой по службе, он потом долго с удивлением и тихим восторгом вспоминал золотистые прогалины света в синей, легко шевелящейся тени дерева, под которым они сидели, яркий, суматошный калейдоскоп жизни, обтекавшей, но не задевавшей его.
Любитель веселых застолий, он не только прекратил устраивать приемы, которыми раньше был славен, но и от визитов в гости старательно увиливал, наперед зная, кто что скажет, кто как сострит.
Медленно и верно средой его обитания, заменяя собой жизнь, становилась культура. Понятие «культура» было связано для художника Каминки исключительно с прошлым. То, что происходило вокруг, он культурой считать отказывался, во-первых, по причине девальвации этого слова («Ну в самом деле, что это такое: культура мытья полов, культура сидения на мостовой», – фырчал он), а во-вторых, утверждал, что культурой может считаться лишь то, что прошло экзамен временем, остальное же в лучшем случае можно считать бескультурьем. И если в первом случае художник Каминка был совершенно не прав, ибо, согласно современным представлениям, под словом «культура» воспринимается абсолютно всё, созданное человеком, а также, согласно господам Пепипенко А. А. и Яковенко И. Г., «вся совокупность внебиологических проявлений человека», то от второго его соображения так просто отмахнуться было нельзя хотя бы потому, что подавляющую часть современной культуры (во всяком случае, для человека интеллигентного) составляет именно что культура прошлого. Что же до художника Каминки, так он еще утверждал, будто часть эта не только большая, но и лучшая.
– Назовите мне современного писателя глубже, мощнее царя Соломона, Сервантеса, Толстого, Музиля? – восклицал он. – Назовите художника выше Рембрандта, Микеланджело, Пикассо, Матисса? Композитора, могущего сравниться с Моцартом, Бахом, Шубертом?
Конечно, в этих его сентенциях таилась немалая доза демагогии, как мы уже упоминали ранее, присущей образу мышления Каминки, и все-таки какое-то зерно в его рассуждениях, безусловно, имелось.
Итак, истинным жизненным пространством художника Каминки была культура ушедшая, то есть культура мертвых, а то, что люди эти однажды были живыми и их искусство было однажды искусством живых людей, нимало его не смущало. Само собой разумеется, что, пребывая в таком, с позволения сказать, реакционном романтизме, Каминка живой жизни предпочитал то, что футуристы когда-то именовали кладбищами искусства, а он любовно называл «домики жизни мертвых», а именно музеи. При этом он любил сослаться на святой язык иврит, в котором для слова «кладбище» среди прочих синонимов есть один, звучащий в переводе как «дом жизни», замечая, что в одном из комментариев он толкуется как дом «настоящей» жизни. (В скобках мы хотим заметить, что к некрофилам Каминка никакого отношения не имел, но тафофилом был безусловно.)
И в Европу он выбирался не как многие его друзья и знакомые попутешествовать, поглазеть на другую жизнь, понаслаждаться видами, гастрономией и прочими простыми радостями жизни. Вкус к этим простым радостям у него давно пропал. Живя в непосредственной близости от моря (что такое какие-нибудь 60 километров!), он вот уже многие годы к нему не приближался. При одной мысли о пляже ему становилось тоскливо, ибо он не мог представить себе, чем там можно заниматься и куда себя девать. Равнодушно смотрел он на пейзажи, сколь величественны и роскошны они ни были. В Европу он ездил ради музеев. С утра и до самого закрытия он бродил по залам, внимательно рассматривая все подряд: монеты, предметы быта, ткани… Но, конечно, основным объектом его интереса было изобразительное искусство. Ему казалось, что жизнь, или, точнее сказать, жизненность, можно измерять некими единицами, на манер килограммов или скорее литров. Вглядываясь в лица давным-давно исчезнувших императоров, сенаторов, весталок, матрон, он убеждался, что количество жизни в этих бронзовых и мраморных изображениях неизмеримо превышает количество оного в большинстве известных ему людей. И никакие, даже самые знаменитые парки не могли заменить ему шелест деревьев, застывших на стенах триклиния Ливии, щебет снующих в их ветвях птиц и воздух, напоенный ароматами смол и цветов, тянущихся к нежному, полустертому небу.
Лишь в музеях, этих святилищах смерти, было дано ему ощутить подлинную, вечную жизнь. Этот мир не был статичным. Он менялся от визита к визиту, открываясь художнику Каминке все новыми, неизвестными ему прежде сторонами. Он был полон сюрпризов и неожиданностей: незамеченная им прежде лессировка, по-новому увиденная линия. Каждый раз по-другому колыхалась листва на пейзажах Сислея, и она была реальнее той, что осталась там, на улице, вне музейных стен. От этих деревьев исходил аромат тополей, лип, каштанов, сосен, а не пластика, бензина, смога и гари. Он восторженно, всем своим существом упиваясь вкусом холодного воздуха, шелестом плещущей воды, ароматом свежеиспеченного багета, впитывал в себя длинные, вытянутые голубые тени отдохнувших за ночь деревьев. Все так же, нежась в тепле солнечных лучей, стоял у набережной пожилой господин с удочкой, и никто не мог испортить это сладостное утро ни ему, ни художнику Каминке каким-нибудь мерзким тяжелым роком, вырывающимся из приоткрытого окна на втором этаже, том самом, в котором в те блаженные, а теперь здесь, в музее, до скончания веков дни, расчесывая русые волосы, юная гризетка напевает песенку о легкомысленной пастушке.
В большинстве музеев у него были свои любимые вещи, и встречи с ними он переживал как свидания с людьми, да что там, гораздо острее. К этим встречам он готовился заранее, тщательно обдумывая детали предстоящего свидания, вплоть до выбора одежды, в которой ему надлежало явиться. Расставание с ними было не менее важным актом, чем сама встреча. И если на встречу, как правило, он шел натощак, выпив чашку крепчайшего кофе, то заканчивать ее он имел обыкновение праздничным ужином.