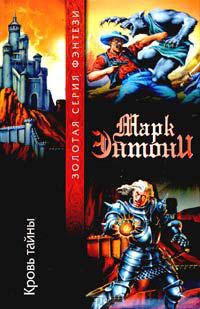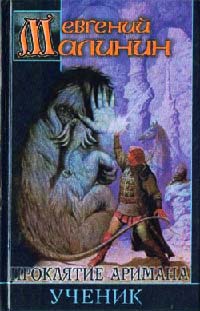— Двину-ка я отсюда, пока снова не запрягли, — проговорила Грейс. — Спокойной ночи тебе, Леон.
— У меня всегда все спокойно, — ухмыльнулся Арлингтон, приподнимая в прощальном жесте воображаемую шляпу.
Перед уходом доктор Беккетт заглянула в свой кабинет, который делила с несколькими другими врачами, сняла халат, забрала чемоданчик с инструментами, пейджер и направилась через холл к служебному выходу. Раз уж решила отправиться домой, нет смысла лишний раз попадаться на глаза начальству. Открылась автоматическая дверь, и она вышла наружу, сразу очутившись в объятиях осени. Еще не смеркалось, но солнце уже нависло над горизонтом, едва ощутимо согревая подставленную его лучам щеку. Грейс с удовольствием вдохнула глоток холодного воздуха. Мимо нее нескончаемым потоком неслись автомобили, подобно армии воинственных муравьев, сметающих все преграды на своем пути. А она пришла на работу пешком. Грейс свернула в обсаженную деревьями боковую улочку и следующие двенадцать кварталов упорно пыталась не думать о том, лучше или хуже стал сегодня мир благодаря ее стараниям.
9
Двадцать минут спустя Грейс поднялась по лестнице на третий этаж и отперла облупившуюся дверь в свою квартирку-студию. Очутившись в темной прихожей, она пошарила рукой по стене, нащупала выключатель и включила свет. Яркая лампа над головой вырвала из мрака не слишком привлекательную картину. То, что казалось свежим и современным в 1923 году, когда Сан-Тропез только строился, ныне, по прошествии стольких лет, выглядело мрачным и уродливым. Белая краска, наляпанная поверх штукатурки, пожелтела от времени, как старое подвенечное платье. Зеленый ковролин на полу местами протерся до такой степени, что из-под ворса проглядывала основа, изготовленная, по всей видимости, из прессованного асбеста. Немногочисленные личные вещи Грейс лишь самую малость помогали оживить обстановку. Она обратила внимание, что последнее из ее домашних растений совсем съежилось и побурело. Что ж, тем лучше: ей больше не придется его поливать.
Она прошла на кухню, такую же убогую, как и вся квартира, порылась в недрах покрытого ржавчиной холодильника и извлекла упаковку китайского риса быстрого приготовления. Затем уселась, скрестив ноги, на низенький пуфик — единственный предмет мебели, являвшийся ее персональной собственностью, — и принялась равнодушно поглощать холодный рис, одновременно наблюдая за выпуском новостей на рябящем экране старенького телевизора, бывшего чуть ли не ее ровесником.
Но голода она не испытывала, а последние известия в точности повторяли стандартную ежедневную смесь катастроф и насилия. Внезапно она почувствовала, что не может больше находиться в этой унылой маленькой комнатке совсем одна, потерянная и загнанная в ловушку обуревающими ее сомнениями.
Грейс встала и удивленно осмотрелась, как если бы видела все это в первый раз. Неужели она в самом деле живет здесь? Она знала, что так оно и есть, но в то же время не могла поверить. Как она может существовать в этом месте, если ничто на свете ее к нему не привязывает? Ни сама эта квартира, ни те вещи, что находились в ней, ей не принадлежали. Это было, безусловно, иррациональное чувство, но настолько сильное и острое, что она не могла не принять его абсолютную реальность.
Ей больше нечего было здесь делать.
Поставив замасленную упаковку с недоеденным рисом на телевизор, она схватила жакетку и выбежала за дверь. Уже спускаясь по лестнице, Грейс сообразила, что забыла ее запереть. Она замедлила шаг и едва не повернула назад. Квартал был не из самых благополучных, и раньше она всегда тщательно проверяла, заперта ли ее квартира. Но в этот момент она ощутила вдруг сильнейшее головокружение, а вместе с ним странное чувство предвидения. Каким-то образом она твердо знала, что никогда больше сюда не вернется. А если это так, то какая ей разница, открыта дверь или закрыта?
Всего лишь мгновение она пребывала в нерешительности, потом снова начала спускаться. Выйдя на улицу, она засунула руки в карманы и пошла куда глаза глядят.
Миновав в сгущающихся сумерках несколько кварталов, Грейс обнаружила, что находится на границе обширного пространства, покрытого густым ковром пожухшей, но все еще зеленой травы и редкими купами деревьев. Городской парк. Она направилась в глубь парка по одной из узких асфальтированных дорожек и не сразу заметила, что машинально насвистывает какой-то мотив. Это была полузабытая песенка времен ее юности или даже детства. Мелодию она помнила отлично, хотя напрочь забыла название и почти все слова, кроме зацепившегося в памяти двустишия:
Слова прощанья часто разлучают
Тех, чьи сердца бледнеют и мельчают…
В этом отрывке не было особого смысла. Грейс подозревала, что со временем стихотворная фраза претерпела в ее мозгу какие-то изменения, но подействовала она на нее исключительно благотворно. Грейс вытянула наружу серебряную цепочку, украшавшую ее шею, она так часто делала во время прогулок. Цепочку венчала клинообразная металлическая подвеска, покрытая какими-то непонятными знаками или иероглифами. Как и старая мелодия, ожерелье было одним из спутников ее детства. Хотя Грейс была тогда слишком маленькой, чтобы помнить, ожерелье было на ней, когда ее нашли бродящей по горам и привели в сиротский приют. В сущности, это ожерелье служило единственным звеном, связывающим ее с былой жизнью и родителями, которых она никогда не знала. Печальное напоминание, но все равно драгоценное для Грейс.
Она продолжала идти вперед. Было так приятно хоть ненадолго избавиться от придавленности этими нависающими над головой громадами городских зданий. К тому же в парке было гораздо светлее, и даже сумерки казались не серыми, а жемчужно-матовыми. Угольно-черные силуэты отдаленных горных вершин вырисовывались на горизонте так отчетливо и ровно, словно вырезанные из бумаги для аппликаций и наклеенные в детский альбом. Первые звезды начали проясняться на быстро темнеющем небосводе. Грейс продвигалась все дальше в глубины парка.
И тут они увидели глаза девочки.
Старомодное темное платье девочки почти сливалось с сумерками, а бледный овал маленького личика обрамляла корона распущенных темных волос, поэтому Грейс не сразу ее заметила. Но глаза ребенка необычного фиолетового оттенка, казалось, светились в темноте, и Грейс застыла как вкопанная, едва почувствовав на себе их пристальный взгляд. На вид девочке было лет восемь или девять. Она молча стояла на обочине дорожки под высоким, гибким и прозрачным, как привидение, эспеном, скрестив на груди ручонки с маленькими и нежными, словно нераспустившийся розовый бутон, пальчиками. Грейс показалось даже, будто девочка прошептала одними губами: «Подойди ко мне», хотя сама мысль об этом выглядела абсурдной. Тем не менее она направилась к ребенку, бессознательно повинуясь той притягательной силе, что иногда инстинктивно влечет некоторых взрослых к маленьким детям. Через несколько секунд она уже склонилась над девочкой.
— Я не заблудилась, — сказала та громко и внятно.
Грейс прикусила язык, так как собиралась задать именно этот вопрос. Она удивленно посмотрела на девочку и внезапно почувствовала, как по коже у нее побежали мурашки. Было в этом ребенке что-то необыкновенное: словно в ней смешались одновременно печаль и непосредственность, мудрость и наивность, детство и… седая древность. У Грейс вдруг возникло странное ощущение, что это она сама заблудилась! Ветер, скользящий меж обнаженных ветвей эспена, выводил тоскливую, заунывную мелодию.