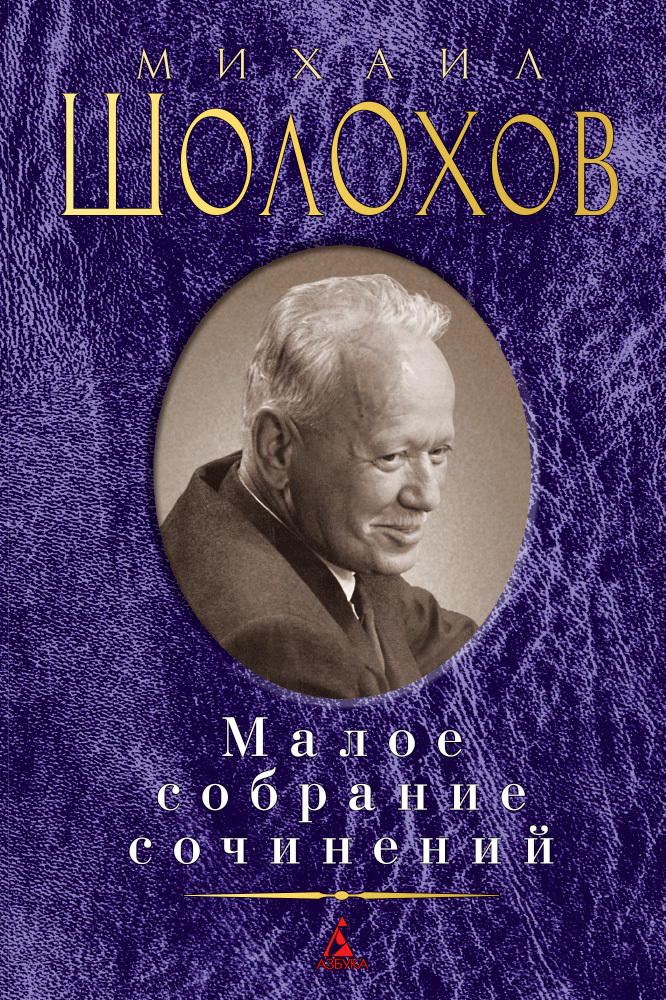же надо пороть? Ясное дело — баб! Да ты чего робеешь? Мне только двух-трех стегнуть как следует, а остальных ажник ветром схватит, в один момент на арбе очутятся!
Считая разговор оконченным, он достал валявшиеся под будкой уздечки, пошел на бугор ловить лошадей. За ним поспешили Нечаев и другие казаки, за исключением одного Осетрова.
— Ты, Тихон Гордеич, почему не идешь косить? — спросил Давыдов.
— Хотел тебе за Устина словцо молвить. Можно?
— Давай.
— Не гневайся ты на его, дурака, заради бога! Он чисто глупóй становится, когда ему шлея под хвост попадает, — просяще заговорил Осетров.
Но Давыдов прервал его:
— Он вовсе не дурак, а открытый враг колхозной жизни! С такими мы боролись и будем бороться без пощады!
— Да какой же он враг? — в изумлении воскликнул Осетров. — Говорю тебе, что он сам не свой становится, когда осерчает, вот и все! Я его с мальства знаю, и, сколько помню, всегда он такой нащетиненный. Его, подлеца, до революции старики наши за супротивность несчетно пороли на хуторских сходах. Пороли так, что ни сесть ему, ни лечь, — а с него как с гуся вода! Неделю поносит зад на отлете и опять за старое берется, никому спуску не дает, у всех изъяны ищет, да ведь с какой усердностью ищет! Скажи, как собака — блох! С чего ему быть врагом колхоза? Богатеньким он всю жизнь поперек горла стоял, а сам живет — ты бы только глянул! Хата набок схилилась, вот-вот рухнется, в хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек, денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом — вошь на цепи, вот и все его богатство! А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела… Может, через это он на всех и клацает зубами. А ты говоришь — враг. Пустобрех он, а не враг.
— Он тебе не из родни? Почему ты за него вступаешься?
— В том-то и дело, что родня, племянником мне доводится.
— Того-то ты и стараешься?
— А как же иначе, товарищ Давыдов? Шестеро ребят на его шее, и все мал мала меньше, а у него язык — как помело. Я ему до скольких разов говорил: «Прибереги язык, Устин! До плохого ты договоришься. Вгорячах ты такое ляпнешь, что сразу окажешься в Сибири, тогда начнешь локоток кусать, да поздно будет!» А он мне на это: «А в Сибири люди на четвереньках ходят, что ли? Меня и там ветром не продует, я — каленый!» Вот и возьми такого дурака за рупь двадцать! А при чем тут его дети? Их воспитать трудно, а посиротить по нынешним временам можно в два счета…
Давыдов закрыл глаза и надолго задумался. Уж не свое ли беспросветное, темное, горькое детство вспоминал он в эти минуты?
— Не гневайся на него за дурные слова, — повторил Осетров.
Давыдов провел рукою по лицу и как будто очнулся.
— Вот что, Тихон Гордеич, — медленно, раздельно заговорил он. — Пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможности, тяжелой работы мы ему давать не будем, чтó осилит, то пусть и делает. Если у него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем: выделим на детей хлеба из общеколхозного фонда. Понятно? Но ты ему скажи от меня по секрету: если он еще раз вздумает мне в бригаде воду мутить, людей сбивать на разные гадости, то ему несдобровать! Пусть он одумается, пока не поздно! Шутить я с ним больше не намерен, так и скажи ему. Мне не Устина, а детишек его жалко!
— Спасибо на добром слове, товарищ Давыдов! Спасибо и за то, что зла на сердце супротив Устина не держишь. — Осетров поклонился Давыдову.
А тот неожиданно рассвирепел:
— Что ты мне кланяешься? Я тебе не икона! И без поклонов обойдусь и сделаю, что сказал!
— У нас со старых времен так ведется: ежели благодаришь, то и кланяешься, — с достоинством ответил Осетров.
— Ну, ладно, старик, ты вот что скажи: как у детишек Устина с одежонкой? И сколько из них в школу ходит?
— Зимою все как есть на печке сидят, на баз выйти не в чем, летом бегают, лохмотья трясут. Кое-что из раскулаченного имущества им перепало, но ведь этим их наготу не прикроешь. А из школы нынешнюю зиму Устин последнего парнишку забрал: ни одеть, ни обуть нечего. Парнишка-то большенький, двенадцати годков, ну и стыдится цыганское рванье носить…
Давыдов яростно поскреб в затылке и вдруг круто повернулся к Осетрову спиной.
— Ступай косить.
Голос у него был глухой и звучал неприятно… Осетров внимательно посмотрел на понуро сгорбившуюся фигуру Давыдова, еще раз низко поклонился и медленно зашагал к косарям.
Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел вслед удалявшемуся Осетрову, думал: «Удивительный народ эти казачишки! Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту болтун и забияка, у которого что на уме, то и на языке? И вот, что ни день, то они мне все новые кроссворды устраивают… Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться! Понадобится, так не то что пуд — целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь, факт!»
Размышления его прервал Устин. Он подскакал галопом, ведя в поводу вторую лошадь.
— А на кой ляд нам, председатель, в дрожки запрягать? Давай запрягем в другую арбу. Небось не растрясутся бабы и в арбах, ежели согласятся обратно ехать!
— Нет, запрягай в дрожки, — сказал Давыдов.
Он уже все успел обдумать и знал, на что ему могут пригодиться дрожки в случае удачи.
* * *
Минут через сорок быстрой езды они издали увидели пеструю толпу нарядно одетых женщин, медленно поднимавшихся по летней дороге на противоположном склоне балки.
Устин поравнялся с Давыдовым.
— Ну, председатель, держись за землю! Зараз устроят тебе бабы вторую выволочку!..
— Слепой сказал: «Посмотрим!» — бодро ответил Давыдов, погоняя лошадей вожжами.
— Не робеешь?
— А чего робеть? Их же только двенадцать или немного больше.
— А ежели я им помогу? — спросил Устин, непонятно улыбаясь.
Давыдов внимательно всматривался в его лицо и никак не мог определить, серьезно он говорит или шутит.
— Как тогда обернется дело? — снова спросил Устин, но теперь он уже не улыбался.
Давыдов решительно остановил своих лошадей, слез с арбы и подошел к дрожкам. Опустив руку в правый карман пиджака, он вынул пистолет — подарок Нестеренко — и положил его на колени