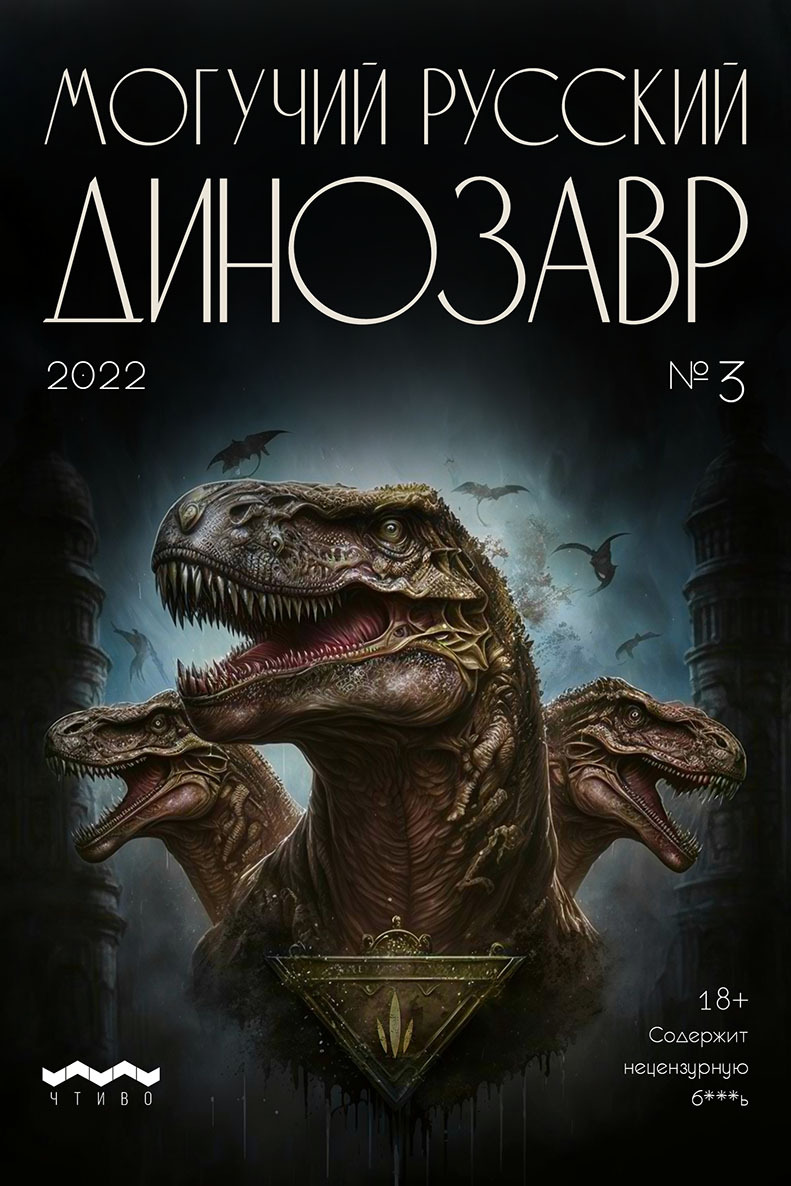но по мере приближения звук вырастал в гул мотоцикла, и вот уже можно было хорошо различить фигуру одинокого мотоциклиста.
Ему было лет двадцать-двадцать пять, у него был новенький камуфляж с яркими цветными шевронами – на передовой такие не носят – и погоны лейтенанта.
Мотоциклист отдал честь Матвееву, как старшему по званию, и предъявил пахнущее типографской краской удостоверение военной прокуратуры ДНР.
– У Вас служит Шульга Юозас Станиславасович?
– Да, – ответил Матвеев, – что-то случилось?
– Случилось, товарищ майор. Ваш подчинённый подозревается в особо тяжком преступлении. За несколько дней до нашего отступления из Славянска он убил с целью ограбления пожилого гражданского, местного жителя.
Земля качнулась перед Александром Матвеевым, и на мгновение он почувствовал себя не комбатом, вершившим людские судьбы и посылавшим бойцов на смерть, а московским гастарбайтером Сашкой, робевшим перед каждым встречным ментом, каким он был год назад. Это невозможно, чёрт возьми, это совершенно невозможно… Юрка Шульга… Этого не может быть, потому что не может быть никогда… Он вонзил ногти в ладони, сдерживая закипающий гнев – что он себе позволяет, этот мальчишка, не нюхавший пороха, здесь передовая, а не…
– Я могу увидеть Шульгу сейчас, товарищ майор? – настойчиво спросил сотрудник прокуратуры.
– Он сейчас на задании, – сухо ответил Матвеев. – Я пришлю его к Вам, как только вернётся.
– Чтобы у Вас не было сомнений, товарищ майор, – говорил ему собеседник, – вот копия расписки. В июле месяце Шульга внёс в фонд Республики десять тысяч восемьсот евро, семь тысяч двести тридцать долларов и двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят три украинские гривны. Мы, конечно, с уважением относимся к добровольной денежной помощи, но Вы же знаете, какова зарплата шахтёра за месяц, и такие суммы…
– Довольно, лейтенант, – оборвал его Матвеев, – поговорим после возвращения Юрия Шульги с задания.
– Вы зря мне не доверяете, – с лёгкой обидой в голосе сказал сотрудник прокуратуры ДНР, – мы все делаем одно дело, Вы на своём месте, а я на своём…
– Вы бы сняли яркие шевроны, – ответил Александр, – на передовой находитесь, можете попасть под прицел снайпера. Здесь носят символику только в оттенках хаки.
* * *
Калныньша разбудил писк смартфона. Он вздрогнул – то, что означал этот сигнал, было практически невероятно, но ещё более невероятным было то, что он увидел, просматривая видеозапись на экране.
На видео не было видно лица человека в камуфляже, только руки – но этого было достаточно, чтобы понять: он знал, что делал. Он умел обращаться с экспериментальной конструкцией, которая и применялась-то всего несколько раз…
Калныньш даже мысли такой не допускал, совсем, он даже не взял с собой резервную группу спецназа. Пришлось поднимать по тревоге украинцев, которые не сразу поняли, что от них требуется.
И БТР Нацгвардии выехал в рассветную степь. Сверху на броне сидел Михайлик Грицай и вглядывался в розоватое утро.
…Выбравшись на поверхность, Юозас отчитался по рации о выполнении задания. Предстоял путь к своим – через степь, при свете наступающего дня.
Травы расстилались перед ним, и поднимающееся солнце светило ему в глаза. Долг был исполнен, и ему удалось отвести угрозу от спящего города. Где-то там, за спиной, оставались кварталы хрущёвок с сотнями и тысячами людей, которые не знали и не узнают о событиях этой ночи… В любом случае, их было больше, чем шестьсот сорок пять.
Он огляделся вокруг и в первый момент не понял, что же изменилось в его жизни.
А потом Юозас осознал, что прошлое – впервые за двадцать пять лет – отпустило его. Он был свободен и вновь имел право на простые человеческие радости – встречать утро, видеть солнце и не думать о проклятых поездах. Страшная вина осталась в прошлом. Он уже забыл, как это бывает, и почти не верил своему счастью…
Юозас несколько раз глубоко вдохнул утренний воздух и только потом заметил противника. Сначала услышал, потом увидел. А его самого, видимо, украинцы заметили раньше, потому что БТР изменил курс и с каждой секундой приближался к нему, видя в одиноком ополченце лёгкую добычу. Противник давно имел возможность расстрелять его из пулемёта, но почему-то этого не делал.
Он сделал шаг назад. Упавший бетонный блок возле дыры в заборе мог быть его единственным укрытием, дальше – голая степь.
Лёжа за этой хлипкой преградой, Юозас сообщил по рации о появлении противника и приготовился к бою.
– Сдавайся! – крикнул Грицай. – Мы же видим, что ты один. Жить будешь! Тебя обменяют!
Юозас выстрелил на голос, и украинцам ничего не оставалось, как ответить огнём. И даже когда пуля ударила его в плечо, он ощутил толчок, и как кровь потекла по руке, но боли всё ещё не было.
– Темократическая сфолочь, – выдохнул Юозас.
– Сдавайся! – кричали ему на чистом русском языке.
– Русские не стаются, – отвечал ополченец.
– Живым брать гада! – шипел в рацию Калныньш.
А враги были уже совсем близко, и пуля, ранившая его в бедро, прошла по касательной, и снова он почувствовал кровь… Но потом случилось более страшное – он услышал щелчки пустого магазина. И враги, наверное, их тоже слышали. Патронов больше не было.
Но только один Юозас услышал протяжный гудок локомотива посреди степи, где не было железной дороги.
То шёл пассажирский поезд Адлер-Новосибирск, маршрут которого пролегал в далёкие советские времена через станцию Иловайск, и шёл он за ним.
Правая рука уже не слушалась его, рукав кителя был совершенно мокрым от крови, и чеку из последней гранаты Юозас выдернул зубами. И, выбросив вперёд здоровую ногу, сделал шаг навстречу своему поезду. Прошла вечность после того, как он сделал этот шаг, и украинцы ещё что-то пытались ему кричать, но он их не слышал. А поезд всё шёл, и сигналил, и звал его за собой, пока его вагоны, и нацгвардейцев, и Юозаса не поглотило пламя.
А со стороны наших позиций уже бежали на