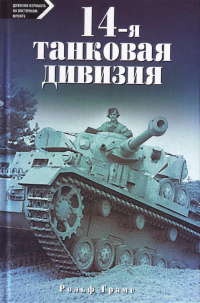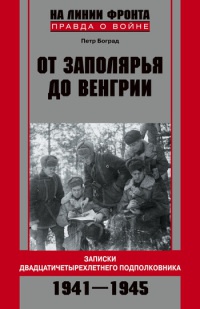пленные, не слишком сдерживаясь, ругали английские порядки и требовали скорее вернуть их на родину. Британская администрация хотела того же. В июле в лагерь приехали офицеры НКВД, и за ребят взялся СМЕРШ. Вот тут пленные быстро и ясно вспомнили всё, что заслоняла тоска по дому и по родине, что успели забыть в немецких лагерях, но было поздно, ничего изменить они уже не могли. На каждого завели дело, провели для порядка по одному допросу, особо резвых избили, и после общего, не слишком дотошного, обыска — по прибытии их ждал ещё не один такой — всех растолкали по товарным вагонам, тюремных вагонов они были недостойны.
Мишка использовал умения, развитые за годы плена, и пронёс за щекой через обыск маникюрную пилочку — на первый взгляд, не бог весть какую полезную вещь, но в опытных руках она становилась и оружием, и универсальным инструментом. За трое суток, работая по очереди, Коля с Мишкой подпилили в боковой стенке две нижние доски, так, что вышибить их можно было одним несильным ударом. Оставалось выбрать время для побега и решиться на него. Когда на соседнем пути станции Киев-Товарный встал состав с лесом, а эшелон с заключёнными, набирая скорость, пошёл на восток, в сторону Дарницы, Коля тихим ударом высадил обе подпиленные доски. Они с Мишкой выскользнули в щель, забились сперва под вагон, нагруженный бревнами, потом перебежали под соседний состав и оттуда сползли по насыпи к железнодорожным мастерским.
Весь опыт их предыдущих побегов говорил, что главные опасности ещё впереди, поэтому, добравшись до ближайшей улицы, они наскоро простились и разошлись. Мишка и Коля не знали, увидятся ли когда-нибудь, догадывались, что нет, что оба затаятся в какой-нибудь тихой заводи на долгие годы и даже не станут искать друг друга, потому что это может быть опасно для обоих. Мишка ушел в сторону Батыевой горы, он хотел поскорее выбраться из Киева, а Коля отправился на стадион. Пришло время забывать про Мирона Ткаченко, он опять становился Колей Загальским, пропавшим без вести летом сорок первого года под Ленинградом. У него не было документов, но именно на стадионе Коля мог встретить людей, знавших наверняка, что он это он, и готовых это подтвердить. Пусть тень Мирона теперь спокойно развеется над Эссеном, а сам он будет счастлив, где бы ни оказался.
3.
Жить рядом со стадионом удобно — Феликса приходила на утреннюю тренировку к шести часам и заканчивала в восемь, когда занятия по расписанию у остальных только начинались. Раздевалки и дорожки понемногу заполнялись спортсменами, приезжавшими сюда со всего города. Подгоняемые криками тренера, похожими на выстрелы стартового пистолета, ленивой разминочной трусцой уже бежали десятиборцы — команда КВО готовилась к армейскому первенству страны. Феликса тоже к нему готовилась, но так у неё сложилось, что тренера видела редко, и её это устраивало. Днём она занималась по очереди с двумя группами, в одиннадцать, и в три часа. Если других дел не было, вечером успевала ещё раз побегать, эти вечерние тренировки и считались плановыми, но они часто срывались — спортсменов то и дело бросали на какие-то срочные работы, тут отказаться было невозможно. А в утренние часы Феликсе не мешал никто.
Закончив тренировку, она вышла из раздевалки и на минуту остановилась у трибун, разглядывая знакомые лица. Среди совсем молодых ребят, показавших себя на первых послевоенных стартах, уже мелькали крепкие фигуры «ветеранов». Они возвращались после демобилизации по одному, искали и находили друзей, их принимали в команды, уважая прежние успехи, но ждали новых. И ни ранения, ни довоенная слава с того момента, как выходили они на беговые дорожки, не значили ничего. Кому-то из них перевалило за двадцать пять, кому-то подкатывало к тридцати, но всем приходилось начинать заново, наравне с агрессивной молодежью, которая точно знала, что времени у них впереди больше и будущие рекорды поставят они, а не старики.
У выхода со стадиона Феликсе встретился высокий, коротко стриженный человек со светлыми, неопределённого цвета волосами, в плаще темного бутылочного цвета и сером немецком костюме. И костюм, и плащ были ему по росту, возможно, даже наверняка, одежда когда-то выглядела элегантно, но теперь плащ был измят так, будто носили его, не снимая, не первый месяц, да и костюм, пожалуй, тоже. Его глаза смотрели встревоженно, взгляд быстро перебегал по лицам встречных, что-то высматривал, не находил и продолжал искать, он метнулся к Феликсе, не задержался, перескочил на кого-то, спускавшегося с трибуны у нее за спиной. Человек в плаще не узнал Феликсу, но она узнала его и остановилась.
— Загальский?
Феликса не видела Колю лет пять. Никто в Киеве не слышал о нём ничего, не знали, где он, жив или погиб, да и тех, кто его помнил, уже почти не осталось. Много предвоенных выпускников техникума физкультуры не вернулись ещё с финской. Она сама удивилась, что в этом исхудавшем, так странно одетом и на вид уже сильно немолодом человеке узнала Загальского.
Услышав свою фамилию, Коля дёрнулся, его взгляд вернулся к Феликсе, и в нём медленно стало проступать узнавание.
— Откуда ты? Из армии? Демобилизовался?
— Здравствуй, Феля, — коротко сказал он, ещё раз огляделся, кивнул на ряд пустых скамеек на трибуне и направился к ним. — Не узнал тебя сразу. Извини.
— Ты давно в Киеве? — продолжала расспрашивать Феликса
— Сегодня вернулся. Прямо с поезда — сюда, — криво улыбнулся Коля. — Я всю войну в немецком концлагере пробыл, в плену. У меня в Киеве никого сейчас, ещё не знаю, где мать, и жива ли. И документов пока нет, надо будет всё восстанавливать.
Феликса мысленно упрекнула себя — должна ведь была сама догадаться. Она и раньше видела этот мечущийся взгляд людей, привыкших безответно терпеть унижения и побои. Бывшие пленные уже возвращались в Киев из немецких лагерей, но их не ждали среди победителей: сдавшись в плен, они предали родину, а работая в лагерях — работали на врага.
Феликса вдруг вспомнила, как уверенно и неторопливо шагал Коля Загальский по стадиону предвоенным летом, когда приезжал в отпуск после финской. В эту минуту она остро пожалела его, и с ним всех, кого знала и не знала, кому пришлось пережить отчаянье и безнадёжную тоску плена. Феликса обняла Колю, под её руками его худые плечи вздрогнули и опустились. От его плаща дохнуло кислым потом и затхлостью, и Феликса, все военные годы решительно давившая в себе проявления слабости, тут же поняла, что нужно делать. Сидеть и переживать, что судьба несправедлива, что война сожрала их молодость, сочувствовать — бесполезно, лучше от этого не станет