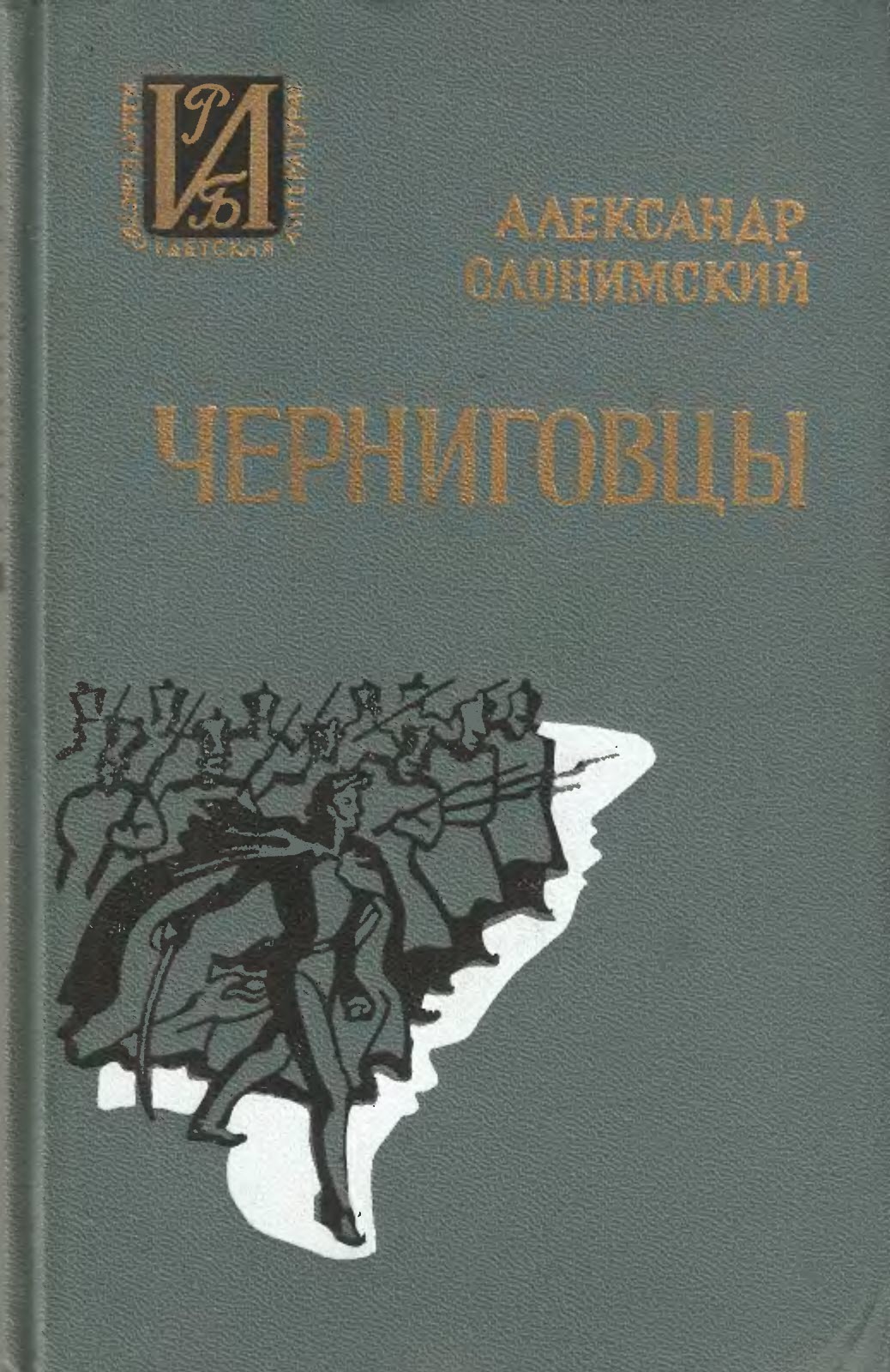мог сделать? Приходил, присылал свою жену на помощь матери, являлись не раз и его сыновья-подростки, оборванные, диковатые. Нищета. Мышь предлагал деньги, но мать не брала. Ведь есть родные.
Петра Петровича Коростелева зверем не назовешь. У него были свои принципы в жизни. Оставить мать своей жены в таком неприглядном положении он считал непристойным. Поэтому он проявил некоторое даже упорство, настаивая на переезде ее к нему. Он заявил авторитетно:
— Я глубоко уважаю вашего супруга, отца моей Люсеньки, хотя не разделяю его взглядов. Вы в моем доме не услышите о нем ни одного критического слова.
Человек был неглупый, знал, чем и как уговорить. Он в карете перевез мою мать к себе. Этот поступок заслужил одобрение его начальства и сослуживцев. Гуманно. Интеллигентно. По-христиански.
Мышь добился того, что тюрьму заменили отцу ссылкой.
А я нанялся учителем в семью одного почтового служащего. Двух его детей, близнецов, мне удалось перетянуть из класса в класс без переэкзаменовок, и меня сочли после этого прямо профессором.
Семья эта была — как отдельный островок. Страхи, суеверия, иконы, и пахнет мышами. Но бури большого мира врывались и сюда, создавали ощущение шаткости существования. Почтарь, бывало, нервно похаживал по комнатам, поглаживая ладонью лысеющую голову (это означало, что он встревожен), а потом начинал осторожно заговаривать со мной на «опасные» темы. «Сашка Жегулев» Леонида Андреева [19] потряс его раз и навсегда, и, кажется, он во мне подозревал нечто от андреевского героя, тем более что судьба моего отца была ему отлично известна.
Может быть, он, как теперь сказали бы, перестраховался, заполучив в дом меня, человека как-никак из семьи «государственного преступника». Бог его знает, что будет завтра! Все казалось этому напуганному человечку зыбким и неустойчивым в той домашней и ведомственной духоте, в которую он запихивал и себя и семью. Жена его, сухопарая богомолка, утешалась церковью и богом, а он, кажется, и в бога не верил. Ни в чем и ни в ком не видел он опоры. Был он, впрочем, не мелким, а довольно крупным работником почтамта.
Донеслось до нашей гимназии дело группы учеников Витмеровского училища, исключенных за подпольную революционную деятельность, и несколько гимназистов восьмого класса заявили протест, но их мгновенно усмирили двойками за поведение и угрозами выдать «волчьи паспорта». Я об этом узнал уже после того, как они раскаялись.
Наш классный наставник говорил нам о витмеровцах как о холерных вибрионах и предостерегал от всех и всяческих революций, как от смертельной заразы: «Не пейте сырой воды!»
Я рассказал об этом своему почтарю в ответ на очередной осторожный его вопрос.
— Им собрали денег, чтобы они учились в Швейцарии, — добавил я.
— Денег? В Швейцарии? — переспросил почтарь таким тоном, словно никаких денег и в помине нет, да и Швейцария выдумана в учебниках географии, а на самом деле и не существует.
Иногда так мне становилось душно, что хоть в петлю. Но в петлю полез Валя Ковранский, мой задумчивый одноклассник, писавший туманные стихи. Один из витмеровцев, по фамилии Пруссак, тоже писал стихи, и Ковранский однажды виделся с ним, поэтому я уважал его. Но Ковранский организовал в седьмом классе кружок самоубийц, и я самолично сорвал его с петли в гимназической уборной. Какой же он герой?
Совсем не хотелось мне ходить к Коростелеву, но ради матери и сестренки я бывал там. Мать, очень изменившаяся, совсем больная, мучилась тем, что не смогла отправиться в ссылку вместе с отцом. Только переписка с ним и утешала ее. Только его возвращением она и жила. Но пришла весть, что отец внезапно умер от разрыва сердца в своем далеком сибирском поселке. Ох, что это было! Меня вызвали к матери, и она так сжимала меня в объятиях, рыдая, что по сей день плечи мои вспоминают эти тиски, а сердце, кажется, вот-вот остановится от невозможности помочь.
Мать рвалась на похороны, но по тем временам, с тем транспортом было это совершенно невозможно. Да и весть дошла уже после похорон. И что-то окончательно стронулось в душе матери. Стала она с виду старой-старой старухой, совершенно седой, и жила с той поры вне всего, что окружало ее, в каких-то своих мыслях и воспоминаниях. Иногда начинала тревожиться, спрашивала, где Витик, потом вспоминала и уходила, как в бездонный колодец, в какую-то темную глубину, из которой ничто не могло извлечь ее.
Одна оставалась мне духота. Не знаю, куда и как толкнуло бы меня, если б не война. К началу войны я был уже в последнем, восьмом классе гимназии, и когда нам, восьмиклассникам, предложили идти добровольцами, то я тотчас же подал заявление и сдал досрочно выпускные экзамены. Все мне осточертело вокруг, и война пришлась мне во спасение. Уж лучше под пули, чем — как Ковранский. За Россию!
Было у меня одно утешение — математика. Когда мучила тоска, я хватал учебник высшей математики и начинал решать задачи. От всего уходил в строгие математические построения, как в прекрасные храмы и дворцы, даже решил тогда, что истинные стояки вселенной — в математике, а не в физике или химии. В математике, в ее постоянных величинах — три кита, на которых зиждется мир. Но от войны и математика не удержала. Россия! Отечество! Нет, тут все ясно, тут нельзя быть в стороне. Я ощутил в ту пору такую кровную связь свою с Россией, что все остальное отпало. Вот где опора моя! Если я не смог помочь матери, то России уж я помогу! Не дам в обиду!
Отличился на этот раз мой почтарь. Прощаясь со мной, он вымолвил, поглаживая лысину:
— Ну да, это у вас хождение в народ.
Никак он не верил в мои патриотические чувства, все видел иначе, чем есть, нисколько даже не заразился всеобщим воодушевлением, хотя при людях выговаривал все слова с должным чувством. Сквозь все, что совершалось, обуреваемый постоянным и неизлечимым страхом жизни, он усматривал каверзу, подвох и тайну. И меня он вообразил таким, каким я и не был. Ничего во мне ни на ноготь мизинца не было от напугавшего его насмерть террориста Сашки Жегулева.
Но ведь вот странность — насчет «хождения в народ» он предугадал верно. Внезапно проявил проницательность. Тоже, конечно, от страха.
Весной 1915 года я отправился с маршевой ротой на фронт.
III
С одним из эшелонов я направлен был в Шестой Сибирский стрелковый полк, стоявший у германской границы, за рекой Нарев. Сибиряков в этом полку уже почти не осталось, они полегли в первых