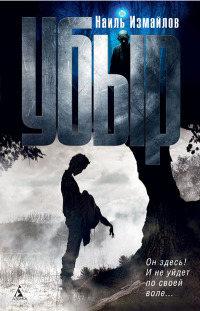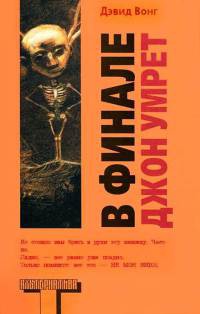Заняться нечем, поговорить не с кем. Не с близняшками же. И не с пацанятами, которые смотрели на меня со священным ужасом и, наверное, напридумывали версии происхождения фингалов, которых на сценарий паре мощных квестов хватило бы. Девчонки из второй палаты были постарше, но тоже шептались, а еще отворачивались и хихикали как дуры. Ну их.
Самое обидное, что я думать почти не мог. В башке была ватная тупость и запах подгорелой молочной каши. А едва я пытался припомнить, что не успел, и прикинуть, что дальше делать, и вообще, и с Дилькой, и с родителями и домом, — виски схватывал неприятно острый обруч, концы которого уходили к затылку, медленно и мучительно.
Я поэтому, кстати, не особо рыпался насчет освобождения. Полежу немножко, каникулы, кстати, себе продлю. Заслужил, поди.
Но Юсупу Башировичу я про такие, как папа говорит, пораженческие настроения рассказывать не собирался. Это, помимо прочего, его и насторожило бы. Я честно поныл, что невозможно скучно и тыды. Юсуп Баширович пошутил насчет бойцов, выращенных иглоукалыванием да медитацией, и в пятый, что ли, раз полез смотреть мне горло. Вид у него после этого стал, как всегда, задумчивым, и вот так задумчиво он мне и сказал:
— Не плачь, мальчонка. Тут и интересное бывает. Рассеянно подмигнул и пошел себе дальше. Издевается. Ну и пусть издевается. Взрослый, имеет право.
А у меня свои права есть. И как-нибудь я ими воспользуюсь. В себя бы прийти, чтобы башка не болела.
Тут позвали на обед.
Обедали все в палатах, используя вместо стола тумбочки. Я-то мог хоть всю палату в зал ресторана превратить, а соседские кровати — еще и в стойку бара, ковбойского такого. Если бы согласился с тем, что ковбои едят творожную запеканку, рассольник или, вот как сейчас, слипшиеся макароны, поверх которых наброшен толстый круг удивительно розовой вареной колбасы.
Я уставился на этот круг, подумал и осторожно поставил тарелку обратно на раздаточный стол. И сам за его краешек незаметно ухватился. Замутило что-то.
Суровая седая бабка, которую почти и не видно было за здоровенными бачками с едой, нахмурилась и осведомилась, что такое еще. Я хотел сказать, что ничего, но поспешно закрыл рот, сглотнул и сунул подбородок в грудь, как на тренировке, а то совсем подурнело. До тумана в глазах.
Бабка вполголоса спросила что-то про свинину, я кивнул наугад, мечтая поскорее отдышаться и бежать. При чем тут свинина? Или она про колбасу? Ерунда какая-то, я к колбасе спокойно отношусь, хотя предпочитаю селедку. Неважно. Сейчас убегу уже. Слава богу, за спиной никого не было, я, как обычно, дождался, пока малышня и тетя Марина с тарелками разойдутся, и после этого прибыл на раздачу. Все, отпустило.
Бабка стукнула тарелкой по столу и сказала:
— Сынок, вот это возьми.
По-татарски сказала.
Макароны с колбасой она убрала, оказывается, и заменила их на здоровенный кусок вареного мяса. Серовато-коричневый, волокнистый и облепленный рисинками и прозрачными кубиками моркови да огурца. Из супа, по всему. Сроду я таким не увлекался.
— Спасибо, — начал я по-татарски, — мне не надо…
И понял, что надо, очень надо. Вернее, не понял, а узнал — по жадной сосущей пустоте, которая распахнулась от горла и во все стороны. Фигасе средство от тошноты.
Я сказал «спасибо», схватил тарелку и почти побежал к палате, на ходу вытаскивая ложку из кармана. Бабка ложку заметила и сказала вслед:
— Вилку у сестры-хозяйки попроси, в конце коридора.
Я кивнул, проскочил пустой, к счастью, коридор — а то бы сшиб кого-нибудь, — теряя тапки, зато почти не хромая и не охая от боли. Вошел в палату и тут же сожрал мясо — быстро, стоя, руками. И, кажется, подвывая от непонятных чувств.
Мясо было разваристое и не очень вкусное, корове было лет восемь, и питалась она не сеном или кормовым зерном, а всякими очистками и отбросами, а я вгрызался как в лучший торт.
Заглотил за полторы минуты, сполоснул руки и тарелку в умывальнике у двери и попробовал понять, что за глупости у меня в башке про восемь лет и очистки. Понимать особенно было нечего. Важнее был вопрос, всегда ли я теперь так жрать буду, руками и с паспортизацией съеденного. Не хотелось бы, конечно, подумал я с отвращением и пошел клянчить вилку. Может, с нею в руках удастся удержать себя от дикарских повадок. А то мама ведь точно убьет. А папа останки высмеет.
Сестра-хозяйка занимала дальнюю комнату за туалетами. Сейчас она ее не занимала. Всего там было полно — ведер, тряпок, шкафов и полок, — а сестры не было. Я на всякий случай еще раз громко постучал в косяк, вошел и огляделся. Вилок не видать. Зато куртку мою видать — висит на крючке у окна, вся такая ожидающая.
Я почему-то страшно обрадовался. Подошел, потрогал рукав. Куртка была вычищена, если присмотреться, следы от щетки заметны. Сильно это не помогло, но все равно спасибо. Я осмотрелся, но остальной одежды не нашел — ни штанов с кофтой, ни белья, ни кроссовок. Ладно, пусть полиции послужат, подумал я, не понимая, почему хожу по кругу и все время возвращаюсь к окну. Ничего в нем не было особенного — пластиковая рама, грязноватое стекло, внизу больничный дворик с зеленой оградой, а за ней — здоровенный корпус с надписью «РКБ». Без «Д».
Республиканская клиническая. Не детская. Взрослая больница, в которой сейчас лежат мои родители и дед.
2
Мама плакала.
Я, пока шел, к чему угодно был готов. Мама могла лежать в койке — вся в бинтах почему-то — и неподвижно смотреть в потолок. Мама могла оказаться здоровой и нормальной — и вышагивать по коридору, наводя порядок и строя всех подряд, — да, это она могла. Мама могла, и это пугало больше всего, сидеть под стулом или стоять посреди палаты, раскинув руки… Тут я споткнулся, чуть не вылетел из тапок и решил больше о таком не думать. И так внутри было холодней, чем снаружи. Снаружи-то я не мерз, только голые щиколотки ветром обдувало да сквозь тонкие подошвы тапок ощущалось, какой холодный асфальт и особенно грязь, — это когда я на скользкие пятна все-таки наступал. Нормальный врач или медсестра, кабы меня засекли, устроили бы кровавую баню с химической санобработкой. И за то, что из больницы выскочил, и за то, что почти неодетый, и за то, что так на заляпанных подошвах во взрослую больницу и вперся. Но я тапки оттер как мог, о бордюр на улице и о тряпку на входе, так что сверху ничего не было заметно. И заметных следов за мной не оставалось. В любом случае во дворе меня никто не засек, а внутри не обратил внимания — тут таких, в синих робах, немало, рост у меня нормальный, а куртку я упихнул в пакет, предусмотрительно свистнутый в том же кабинетике сестры-хозяйки.
В вестибюле я почти потерялся, но вовремя сообразил, что главное — не задавать вопросов и не попадаться на глаза врачам и охранникам. Посидел на скамеечке напротив здоровенной схемы, изучил все, отдыхая заодно — тяжело в тапках по мерзлой грязи бегать, — отмел все отделения, в которых моих явно быть не могло, — хирургия там всякая, ЛОР, гинекология и все такое. Некоторых слов вроде «перинатальный» я не знал, поэтому наметил непонятные центры и отделения как мишень второй очереди. Дождался, пока важный охранник в очередной раз выйдет курить, и не спеша прошел к лестнице.