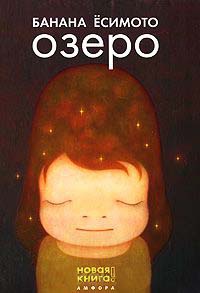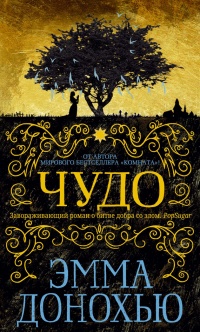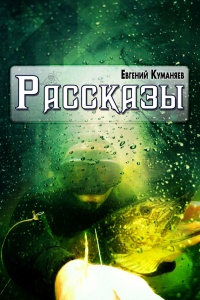Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 146
Я решил, что и писательская братья, обняв, поцеловал, пошлёт меня за бутылкой; но вышло иначе: из застолья взнялся дородный степняк, уложил на ладонь десятирублёвую бумажку, сверху припечатал непочатую бутылку «Столичной» и церемонно, с поклоном вручил мне. Я принял обрядовый дар и смеха ради уложил бутылку в портфель, а десятку сунул во внутренний карман пиджака: дескать, мужики, рад бы с вами выпить, поболтать о поэзии и прозе, но спешу, мужики, – волка ноги кормят… Дородный степняк, именитый романист, и всё застолье напряжённо следили, как я прятал их дар, и глаза их вначале удивлённо округлялись, потом стали воинственно зауживаться. «Ну, – думаю, – наскребёт кот на свой хребет…», и дабы не дразнить степную орду, быстренько выставил «Столичную»… И так борзо мы загуляли, что я не токмо пожертвовал дарёную десятку, но и пропился до нитки и уплёлся к племяннику на постой чуть живой; «прилетел на кочерге, кривой, как турецкая сабля…» – поутру ворчал племянник, о ту пору розовощёкий комсомольский вождь.
И вот, кажется, через полгода, вновь я посетил степную столицу и, уверенный в удаче, весело поскакал к журнальному редактору. На сей раз Будамшу не страдал похмельной головой, а сидел слегка выпивши и, вынув из письменного стола мою горемычную простушку-повестушку, нацепил очки, раздумчиво взлохматил рукопись. Чуяло моё сердечко худое, но я ещё цеплялся скрюченными пальцами за надежду, что отдаст на доработку, и изготовился слушать мудрое редакторское слово. Будамшу, будучи в очках, и смахивал на профессора, что вознамерился бубнить лекцию про эмоционально-семантическую роль многоточий в моих сочинениях, про то, как мне повестушку довести до ума. Но редактор неожиданно …а ведь в очках, и рукопись листал… молвил коротко:
– Не пойдёт.
– Почему? – слезливо вопросил я.
– Бурятка с русским никогда не закрутит…
Я опечалился, и опять вспомнил, как мы бродили с его сестрой по берегу спящего, лунного озера и читали на память стихи Намжила Нимбуева… Несолоно хлебавши покинул я «Байкал», сожалея, что степные мои земляки, не узрят повесть, где я их воспел… Минуло лета два, и повесть «Белая степь» увидела белый свет, да мало того …диво дивное… односельчане мои, русские и буряты, разыграли повесть на клубной сцене.
2000 год
Зоопарк
Любили книгочеи прозу Распутина; прочие любили Распутина за славу, даже не листая распутинских книг, и ладно бы грели душу, а то ведь норовили и руки погреть. И грели… А случалось и вовсе зоопарковое ротозейство.
В досельные года, когда народишко на крови и надсадном труде созидал земной рай, рухнувший от безбожия, когда на «писателей шли», и книгочеи битком набивали залы, яблоку негде упасть, то в потном воздухе, в суетной давке, в гуле возбуждённых восклицаний чуял мой нюх зоопарковое любопытство. Увидеть!.. Услышать голос!.. Пощупать!.. Клок штанины оторвать!.. Вспоминают, однажды Горький, Андреев и Чехов, посетившие театр, в антракте, убегая от поклонниц и поклонников, ринулись в буфет, но фанаты и там их окружили осиным роем. Нависнув над круглым столиком, за коим всесветно славленые писатели ели и пили, фанаты громко восхищались: «Гли-ко ты, Горький-то!..Горький-то!.. Водочки испил, пирожок сглотил. Андреев-то!.. Андреев-то, – мамочки родны, – пива попил, сушёной воблой закусил… А Чехов-то!.. Чехов-то!.. Красного вина в бокал плеснул… От, чо деется на белом свете, а! Ить как люди же простые… Эх, пробится бы да книжку подписать…»
Се утробный, плотский интерес, к закату века вытеснивший иной… Помню, затеяли мы с поэтом Махно литературный вечер, посвящённый творчеству Валентина Распутина, и в зале вальяжно посиживали сытые, холеные студентки университета экономики и права. Впрочем, сытыми, холёными, вальяжными померещились мне девы из досады… Услыхав, что вечер без великого писателя, девы скуксились, кисло скривили знойно-крашеные губы. Махно, прежде чем молвить о Распутине, развенчал тогдашнюю поп-звезду Пухачёву.
– Если бы у Пушкина в няньках жила не крестьянка Арина Родионовна, а Пухачёва бесноватая, то из Пушкина вырос бы Дантес…» – заверил поэт, и публика загудела паучьим семейством; дерзкие девицы кинулись оборонять звезду, да Махно …воистину потомок батьки Махно, деревенского заступника… Махно сурово гаркнул:
– Пусть выйдет на сцену, кто защищает Пухачёву!..» – И голоса уныло завяли, словно чахлые цветочки в заплесневелом горшочке.
Я же толковал о библейской нравственности распутинского творчества, и на исходе беседы обратился к публике: мол, есть вопросы?.. Натужная тишина, про кою говорят: дескать, иудей родился… Затем напомаженная, разряженная в пух и прах экономическая девица откровенно спросила:
– Вы классно говорили о нравственности Валентина Распутина, а вот интересно: у него есть любовница?..
Я опешил …нравственность, любовница… но потом очнулся, и, коль сроду не лазил в карман за словом, то и отбрил девицу:
– Про любовниц не ведаю, но попробуйте: девица вы здоровая, и чем леший не шутит…
Думаю о музейно-ротозейном любопытстве, и отчего-то поминаю выставку доморощенных ивангардистов и абрамгардистов. Занесло дурным ветром в частную картинную галерею; вижу, пёстрый народец густо роится, – потёртая, потрёпанная молодь, крашеные старушонки, джинсовые старичонки… За полвека вдосталь нагляделся на чудищ родных и заморских, а нынче потешил долговязый, патлатый, прыщавый малый, который, словно огородное чучело, обрядился в бренчащие вериги из пивных заморских банок. Шастает по залу ходячее «произведение» и бренчит, бренчит, бренчит…
– Это что, тоже искусство? – спросил я бренчащего, тыкая пальцем в банки.
Бренчащий, кажется, ведал, что я деревенский писатель, и, звякнув банками, сладил умное лицо:
– Инсталляция – искусство… Искусство, как у Распутина, но у Распутина – деревенский реализм, у меня – городской конструктивизм. Искусство не топчется на месте, искусство движется…
И двинулся по залу, бренча банками, а я подумал: «Нанять бы чучелом на дачу, ворон пугать, а то уж которую зиму облепиху объедают и кусты ломают».
2001 год
Люблю до вечного покоя
Люблю твою, Россия, старину, Твои огни, погосты и молитвы, Люблю твои избушки и цветы, И небеса, горящие от зноя, И шёпот ив у омутной воды Люблю навек, до вечного покоя…
Николай Рубцов Не ветшая в насмешку над мёртводушным и душным, бетонно стылым жильём, могучие избы-вековухи мудро и покойно, с погостовой отрешённостью от жизни, красуются на ангарском яру, вросши в берег закаменевшими, лиственничными корнями, словно и не рубили их русские мужики, а избы взросли из земной тверди и заматерели, как взрастают и матереют кряжистые лиственницы, уплывающие в поднебесье, солноликие сосны.
Русская изба – дом, терем, хоромы, словно древняя славянская ладья, выплыла из тьмы веков, из эпохи скифов-земледельцев, и на Русском Севере да в Сибирской Руси обрела вершинное творческое воплощение. Русский мужик-древоделец, срубив дом-пятистенок из сосняка, что до звона выстоялся на корню, уложив в нижние венцы лиственничные кряжи, умудрив кружевной лепотой, гадал не о том лишь, что в трудах и молитвах ладно, угревно и чадородно заживут домочадцы в избе, но и небесной блажью cладко томил сердце: продюжит изба два века, и добрым, молитвенным словом помянут внуки и правнуки его, строителя хоромины, и легче, отраднее будет на небесах его крестьянской древодельной душе, грешной, но согретой родовой, братчинной и сестринской любовью во Христе.
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 146