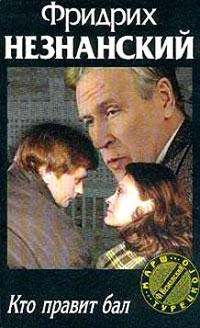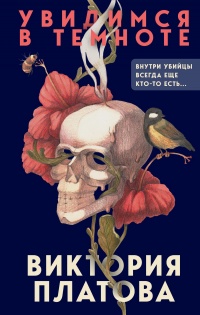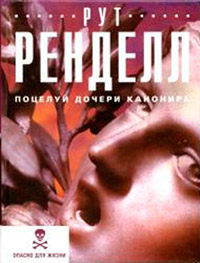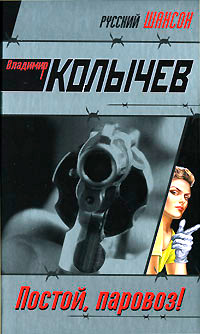А Белкин узнал Забродина с первого взгляда.
– Надо же! – сказал он с усмешкой, пожимая руку Глеба Кузьмича железной, натренированной пятерней. – Глеб… А по моему понятию, ты давно… – он помедлил, – на том свете. Видел тебя в одном списке. Кто в него попадал… Значит, чудеса бывают. Надо же…
– Какой еще список? – не понял Забродин.
– Много их, Глеб Кузьмич, списков этих, было… – Белкин вытер носовым платком слезящийся правый глаз и попридержал мизинцем нервный тик. – В сорок первом под моим началом… недолго, правда… так вот. Под моим началом все северные лагеря Колымы были. Вот тогда и встретил твою фамилию в одном списке. Правда, меня уже в сорок втором перевели в Мордовию. Потому и не уследил за тобой…
– А сейчас? – перебил Глеб Кузьмич, чувствуя, что тяжелой, чугунной ненавистью наливается голова. «Спокойно, спокойно!..» – приказывал он себе. – А сейчас ты где?
– На пенсии. – Белкин полуприкрыл глаза тяжелыми веками. – Чуть было в смутную пору, сразу после смерти Иосифа Виссарионовича, под трибунал не угодил. Сам понимаешь: козлы отпущения на заклание понадобились. Только дружба-то среди нашего брата еще есть…
– Круговая порука, – уточнил Глеб Кузьмич.
– Пусть так, – усмехнулся Белкин. – Короче говоря, друзья вызволили, обошла беда стороной. А ты что, Глеб Кузьмич, рад бы был, если бы меня – под трибунал?
– Рад! – не сдержался Забродин. – Рад!.. Всех бы вас под трибунал!
– А вот на-ка, выкуси! – И Василий Иванович с удовольствием показал собеседнику шиш. – Так что, Глебушка, все у меня в норме. Пенсия полковника с учетом северных и выслуги, квартира в центре, на улице Горького, еще в войну ею обзавелся, машину имею, «москвичок», правда, но, думаю, вскорости «Волгой» обзаведусь. Ну и дачу построю, соседушка, так соображаю, не хуже будет, чем у тебя, все для этого дела имеется. – И пристально, долго посмотрел Василий Иванович Белкин на Забродина. – Постой-ка, Глебушка… Это кого ты – всех под трибунал? Интересно… И ты еще в наших органах работаешь? Придется проявить бдительность…
Глеб Кузьмич нагнулся к волосатому уху Белкина и прошептал:
– На это я тебе, пахан, сучье вымя, мать твою перемать, в душу, в темя… – и так далее, длинно вышло, по-лагерному, – вот что скажу: в гробу я тебя и таких, как ты, козел вшивый, видел с вашей бдительностью. В гробу и в белых тапочках. Понял?
И как бы очнулся полковник КГБ в отставке Василий Иванович Белкин, в действительность 1954 года вернулся из сладких тяжелых грез, окрашенных темно-красным густым цветом и прорезанных лучами прожекторов со сторожевых вышек, поднялся со стула (разговор происходил в перерыве, в зале народу было мало) и опрометью зашагал прочь – еще крепкий, широкоплечий, со спиной, в которой было что-то такое… Как будто вот сейчас она ждет свою справедливую пулю. За все, за все…
С тех пор они не разговаривали ни разу. Часто встречались – издали. На своих дачных участках. Особенно летом и осенью 1954 года, когда строились – каждый в меру собственных сил и возможностей.
Свою жизнь Вася Белкин проклял еще в 1918 году, в Берлине, когда рухнуло счастье с Мартой (Марточкой) в сытой, благополучной Германии и предстояло возвращаться в Питер. К тому же… Ладно, не давайте ордена, премии никакой. Но хотя бы поблагодарить, руку пожать. Ни-че-го!.. А ведь если бы не он, Василий Иванович Белкин, вернулась бы половина «Золотой братины» в Россию? Хрен бы вернулась! Ведь кто Молчунов выследил? И гостиницу эту вонючую обнаружил, Сарканиса привел? Кто? Обида, тупая ярость, желание все (что – все?) сокрушить разрывали темную душу молодого чекиста и в последние дни в Берлине, и в долгой тяжкой дороге в Россию, полной невзгод и опасностей.
И в Петрограде… Лучше не вспоминать… Через два дня по прибытии, после того как улеглись страсти, связанные с «Золотой братиной», оставил Василия Белкина одного в своем кабинете Дмитрий Наумович Картузов, попыхивая мефистофельской трубкой, и произнес:
– Вот что, Василий, сокол мой ясный… Посоветовались мы тут. Да и не скрою: информацию из Германии о тебе изучили. – «От товарища Фарзуса», – догадался Белкин, наливаясь бессильной ненавистью. – Словом, есть соображение… Ты только, дружок, не обижайся. Кýиквэ суýм. Каждому свое. Весьма и весьма… Словом, Вася, оперативная работа – разведка ли, сыск ли – не твое призвание. Ты шею-то не набычивай. Я к тебе – со всей душой. – Дмитрий Наумович с удовольствием затянулся ароматным дымом из своей трубки, задумчиво порассматривал неизвестный пейзаж Куинджи, доставленный в Чека из реквизированного поместья, и заключил: – Короче говоря, есть для тебя два предложения… Первое: можешь уволиться по собственному желанию. Выходное пособие тебе определим – месяца за три твой оклад, характеристику дадим – в лучшем виде. Второе. Имеется вакантное место в бывшем доме предварительного заключения на Литейном. Там мы политических содержим. Можешь поступить в распоряжение коменданта, не рядовым охранником, конечно. Если примешь сие предложение – похлопочем. И значит, в Чека у нас останешься… Потом вот что…
Не дослушал Василий Белкин – бросился из кабинета, оглушительно грохнув дверью.
…И обнаружил себя в общежитии, которое находилось в бывших номерах «Мадам Коти» – в них богатые господа до торжества народной власти дорогих шлюх водили. Теперь обитали тут по четверо в разоренных комнатах рядовые чекисты. Упал на свою широкую кровать Вася, не снимая сапог, зубами подушку мертвой хваткой прикусил. И не сдержался, завыл. Благо из сожителей никого в комнате не было. Гады, ублюдки, бляди… Всех бы собственными руками… А товарища Фарзуса за яйца бы подвесить… Ненавижу!..
Однако что делать? Уйти из Чека? А дальше? На какой завод податься или фабрику? Да ведь ничего не умеет делать молодой чекист Василий Белкин. Чернорабочим, что ли, определиться? Нет уж, граждане-товарищи, увольте! Или в родную деревню, в смоленскую глушь, вернуться: «Здравствуйте, маменька, вот и я!» Крестьянствовать? Тоже, уважаемые, увольте. Дураков нонче нету. Были, да все вышли.
Наутро зажал Вася Белкин гордыню в кулак, явился к Дмитрию Наумовичу Картузову с повинной.
– За вчерашнее извиняйте. И – согласный я.
– На что согласный?
– Определите в этот дом… Ну… На Литейном.
Тот краткий разговор и решил дальнейшую судьбу Василия Ивановича Белкина.
Главная политическая тюрьма бывшей царской России на Литейном проспекте, теперь в том же качестве унаследованная большевиками, поразила и подавила поначалу Василия: огромные каменные размеры, металлические гулкие лестницы, висячие коридоры, бесконечные вереницы окованных железом дверей, черная краска, которой были покрыты полы и стены камер, – все это поражало, повергало в трепет перед мощью власти и законов, оберегающих власть. Ничтожен, жалок человек, осмелившийся восстать против сильных мира сего, властей предержащих…
Дмитрий Наумович Картузов слово сдержал: Белкин получил пост главного на третьем этаже – все надзиратели и тюремщики были в его подчинении. Начальник… Оклад приличный, довольствие казенное и харч – от пуза: нечего этих контриков, против рабоче-крестьянского государства выступающих, раскармливать. Конечно, жратва – с германско-буржуйской не сравнить, никаких тебе деликатесов с пахучими соусами да приправами. Однако в голодной и холодной совдепии каждый день ты сыт, если повезет – пьян.