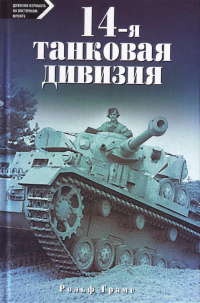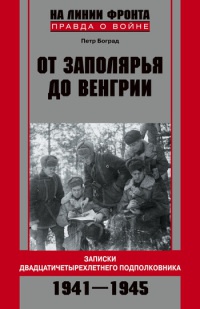у меня не было оружия. Всё это сказки.
— А хедер в партизанском отряде?
— Сделанное многими часто приписывают одному. Я был не один, не был даже первым, но оказалось, меня легче запомнить. Со временем одни погибли, другие ушли, а меня быстрой волной вынесло в Москву. Потом так же быстро отбросило назад, но всё, о чём я говорил, что рассказывал, уже тащилось следом за мной… Наш народ бросили безоружным, оставили на полное уничтожение. Нас косили, как траву, жгли, как бурьян.
— Я знаю…
— Нет, ты не знаешь. Ты не знаешь почти ничего. Свыкнуться и жить с таким знанием невозможно, поэтому в киевских майсах я скачу с шашкой, комиссарю и творю такое, о чём мне, наверное, лучше не слышать. Люди защищаются от прошлого как могут, но от нашего прошлого защиты нет, и меньшее, что я могу для них сделать, — отдать своё имя. Так пусть берут… А тебе я расскажу одну настоящую историю, и буду счастлив, если ты сможешь её продолжить.
Ты же помнишь, я не хотел уезжать из Киева. Тогда мне казалось, что в этом есть смысл, возможно, он и был, только совсем в особом роде, сейчас не об этом. Среди моих детей коммунистов нет, но когда я объявил, что остаюсь, они устроили настоящее партсобрание, разбор личного дела с вынесением и занесением, а потом решили, что останутся со мной, все до единого, чтобы я увидел, как немцы расстреливают моих внуков. Меня разбили наголову, я капитулировал и отдал себя на милость победителям.
Как уезжать и когда — решали без меня, всё равно я в этом ничего не смыслил. Потом меня везли, пересаживали, снова везли, я стал багажом Оси, младшего брата Ханы. Он был красивым, высоким мальчиком, немного боялся меня и оттого, наверное, покрикивал чаще, чем это было нужно. Ося погиб под бомбами, на выезде из Полтавы, а я остался багажом при убитом носильщике. Что делать, если ты беспомощный, растерявшийся старик, на которого обрушилась чужая смерть? Я слышал крики живых, стоны умирающих, видел, как уходит в песок кровь и затихает жизнь.
Меня подобрала одна девочка, она сказала, что знает, кто я, и даже объясняла, откуда знает, но я и сейчас уверен, что видел её впервые. Мы думали, я задержусь у неё на два-три дня, пока решится, как я поеду дальше, но все уже шло кувырком, неслось, летело мимо-мимо. Никуда она меня отправить не смогла — не с кем было и не на чем, а потом на нас свалились немцы. Я остался в Полтаве сверчком между досок, прожил там сперва осень, потом всю зиму.
Я пришелся в тягость, и я это знал, моя хозяйка должна была работать, ездить по сёлам, а я висел на ней камнем, и оба мы ждали, когда меня выследят и вытащат из щели на её чердаке, побьют камнями привселюдно, а следом и её, в назидание остальным.
Много ты видишь геройства, Гитл, в том, чтобы молиться сутками, прижавшись к остывающей печной трубе? Так я прожил полгода, а потом пришел какой-то друг моей хозяйки и сказал, что есть один идише ингеле, который отправит меня на советскую сторону. Ты знаешь, что было дальше?
— Нет, — удивилась Гитл.
— Жаль. Я надеялся, что эту историю тебе уже рассказывали. Тем идише ингеле был твой сын.
— Илюша?
— Я называл его Эльяху.
— Так вы его видели? — Гитл не ожидала услышать в рассказе реба имя среднего сына и оттого испугалась. — В Полтаве?
— Я его видел, думаю, я даже натёр ему между лопаток изрядную мозоль своим хребтом, потому что опять был ношей, багажом. Он всех нас обманул, он шел не на советскую сторону, наоборот, у твоего сына были какие-то дела в немецком тылу. Поэтому от Полтавы он доставил меня на правый берег Днепра, в лес под Таганчой, хотел нести и дальше, но там наши планы уже не совпали и пути разошлись.
— Он шёл в Киев, — Гитл вспомнила все, что рассказывала ей Феликса.
— Он молчал, не говорил, кто его отправил и куда. Мне ничего не известно, кроме того, что задание ему дали не самые умные люди. Тогда я об этом догадывался, сейчас уверен… Так что ты ещё о нём знаешь?
— Почти ничего, ребе, кроме того, что Илюша был в Киеве. Потом пропал.
— Он же не колхозный пастушок, таких запоминают. Если б его видели, не забыли бы. Может, и до меня дошли бы разговоры, а я о нём больше не слышал. Ты его ищешь?
— Невестка этим занимается, но пока ничего. Она получила извещение, что Илюша пропал без вести, и даже пенсию за него не получает.
Реб Нахум вспоминал свой путь от Полтавы до Днепра много раз, вспоминал разговоры с Ильёй, и чем дальше в прошлое уходил тот короткий эпизод, тем важнее ему казался. Может быть, он был самым важным за все два года, проведённые им в лесах.
Полгода назад, в Москве, к нему в гостиницу явился Эренбург и зачем-то взялся вспоминать старый Киев. Реб Нахум не мог понять, к чему затеян разговор, откуда Эренбургу его помнить? Не считать же старым Киев восемнадцатого года.
— С делегацией всемирного еврейского комитета приехал ваш давний знакомый, даже друг, как он говорит. Просит устроить встречу.
— Как зовут моего давнего знакомого, даже друга?
Эренбург назвал американскую фамилию, которая ничего не говорила ребу Нахуму, он слышал ее впервые.
— Нет, ваш делегат ошибся, я его не знаю.
— Он родился в Проскурове, вы вместе учились в иешиве. Тогда его звали…
И прежде, чем прозвучало имя его давнего приятеля Вольфа Габо, реб Нахум догадался, о ком речь.
— Да, да, конечно. Я хорошо помню Вольфа. Знал, что он уехал, но куда, и как, и что? Потерялся, пропал за океаном. Оказывается, сменил имя.
— А он следил за вами, Наум Самуилович. Наводил справки, знает так много, что я удивился. И у него к вам предложение. Странное, на первый взгляд, но, возможно, только на первый.
— Так может быть, поедем, и я его выслушаю? — спросил реб Нахум с такой деликатной долей язвительности, которую позволяли ему воспитание и уважение к известному писателю.
— Вам… Нам не рекомендовали встречаться отдельно, — Эренбург отвёл глаза. — Вы увидите его завтра на митинге, там и поговорите.
— Рекомендовали не встречаться и отклонить предложение, — догадался реб.
— Не совсем. Тут решения принимают разные ведомства, за регламентом следят одни, а политику определяют другие. Политика у нас сегодня, можно сказать, открытая. Вам рекомендовано принять самостоятельное решение, и если согласитесь, все необходимые