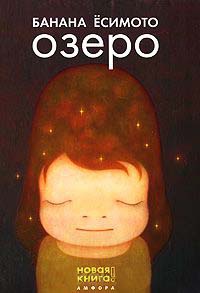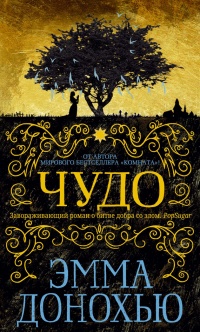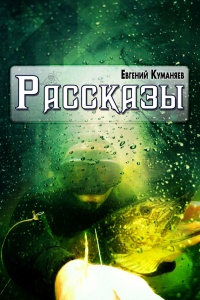Русским поэтам XXI века посвящается…
Привиделся русский поэт, и эхом послышались стихи… Словно песнь степного кочевника, печален и заунывен запев – в России сумерки… потёмки, и моросят стылые дожди, и народ русский, словно библейский блудный сын, покинувший родимое село с седой церквушкой и покосившейся избой, бредёт устало и растерянно по бездорожью; бредёт сквозь несжатые, от дождей стемневшие, поникшие хлеба, сквозь инославный, вороний грай, шум и гомон суетливых городищ. И нет ему, сыну русскому, пристанища, нету роздыха в душе. Но вдруг привидится в чаду и грохоте, в дождливом мороке приманчиво мерцающий, желтоватый огонёк, словно затеплилась свеча возле иконы; кинется поэт встречь, но – пустота и холод одиночества, унынье и тоска.
Случались лихолетья на Руси: «Хоть убей, следа не видно. /Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас водит, видно, / Да кружит по сторонам…» Но в старорусье бес кружил лишь «высший свет», отверженный крестьянами, измученный гордыней и воспетыми пороками; но крестьяне, греша и слёзно каясь, смиренно верили в Царя Небесного и Царицу Небесную, во всех святых, в небесах просиявших; и оно, русское простонародье, на крестьянскую колодку шитое, отбивалось от беса крестом и постом. Царь Небесный – спасает душу для Царствия Небесного, земной царь-батюшка …в середине двадцатого века отец народов… утверждает Божью правду в царстве дольнем. Но и змей-искуситель не дремал, соблазняя мудростью дольней, что безумие для мудрости горней; и, как вначале века, вновь окутал Россию сумрак окаянства, когда и простолюдье заблудилось на росстани дорог, в духовной тьме шатаясь и вправо, и влево, туда, где померещиться призрачный огонёк, куда поманит лукавый голосок…
…Поэт спохватывается: унынье – смертный грех; рано инославцам хоронить Русь, и позор заживо падать в кедровую домовину; грешны мы, но покаемся; и село без праведника сроду не живёт. Взгляд поэта вздымается к Руси изначальной; и, как и бывало в пору великих смут, в слове русского стихотворца не трели соловьиные звучали, а молитвы и набатный звон. Поэт изначально воспевал байкальские утренние туманы, алые зори, звёздные россыпи, но, когда Русь полонила чужебесная власть, в голосе поэта зазвенела страсть народного отмщения.
Творческая судьба, что в руце Божьей, благоволила поэту, – душа не выветрилась на сквозняке мирских сует, не выстудилась в холодных российских позимках. Поэт пристально вглядывается в пучину памяти, и с призрачного дна вздымаются видения: Байкал – то яро пенистый и буйный, то дородный, ласковый, ленивый; таёжные хребты со снежными гольцами, подпирающими синь небесную; пойменные луга, синеющие тихими цветами незабудками; стреноженные кони, плывущие сквозь утренний туман, с глухим, чуть слышным перезвоном треног; родная деревушка подле озера; мать и отец, сестра и земляки, перестрадавшие войну, – когда видения наплывают, томя душу полынной грусть, голос поэта наливается красой и силой.
В ранних стихах поэта о Родине ещё не терзала душу так, как нынче, боль за поруганную землю, за униженный, растерянный, отчаянный народ – Родина была крепка, народ не унывал. Тогда ещё перекатами речными трепетно и осияно солнцем звенела радость земного бытия; тогда ещё предутренне светла была печаль по детству, навек ушедшему в поля, растаявшему в озере туманном; тогда ещё нежными, земными были поклоны байкальским отичам и дедичам, поклон морю-озеру и рыбацкому селу, голубичным распадкам и брусничным хребтам, сенокосным лугам и вольным выпасам.
* * *
Но разверзлись небеса, и пал каменьями на землю гром, и молнии – языки змеиные, – впились в сумрачный хребет… Словно погост вдали от деревеньки, уныло чернеющий крестами на степном увале, словно далёкое небо, наособину живёт в книгах русского реквием, посвящённый сыну, убиенному на Украине. И рождается реквием, ибо грех именовать стихом взнявшиеся из глубин родовой памяти, древние русские причитания; хотя и не причеть, зазванной на тризну, умудрённой певни-вопленицы, – здесь плачи, исходящие из стиснутого мукой, обмершего сердца. Таинственно, как поэт сумел трагически высокие, отрешённые от здешнего суетного мира, мучительные чувства – любовь, страдание, смертельную тоску – обрядить, словно в последний путь, в такие же высокие и отрешённые слова, холодно-белые, похожие на первый снег среди крестов, среди чернеющих берёз.
Кажется, чтоб не сойти с ума от горя и душу уберечь от замогильной стылости, поэт спасался молитвенным стихом.
* * *
Но – словно река, которая вырывается из таёжных сумрачных распадков, из каменных объятий скал на васильковые луга, – жизнь течёт дальше. Матереют сыновья и дочери, уходят в свои, отцами забытые, юные миры; но, будто ангелы в солнечной плоти, являются внуки и внучки и лепечут на ангельском говоре, похожем на перезвон родниковый, тянут ручонки к понурой, натруженной дедовской шее, и от того теплеет и светлеет пожилая, усталая душа. Жизнь продолжается. Истаивает серым вешним снегом жажда мщения, и вместе с зеленями майскими и робкими просыпается любовь. А славословные величания Царя Небесного – Любовь, Слово, Художник, а ино и Поэт…
1996 год
Живые писатели
Потеха вышла… Я о ту пору слонялся по жизни студентом прохладной жизни, как дразнила мама, печалясь, что от учения и сочинительства я свихнусь, сопьюсь и сблужусь. Свихнуться не свихнулся бы – парень башковатый: в смысле, башка крепкая, мужичья, – а прочее… но не о сём ныне речь. И вот о ту мою шалую, вешнюю пору потеха и случилась…
По осеннему Иркутску под шелест палого листа шествовал литературный сабантуй, куда слетелись прибайкальские и забайкальские самородки, где честолюбиво гудел сумасбродный и гордый писательский люд, где кружило краснопевцев в ревучей, перекатистой и омутной литературной реке. Те, кого Бог, а ино и лукавый писательским даром не обидели, да ещё вёрткие, прыткие, те дерзко миновали перекаты и омуты, а уж тихим да бесталанным досталось, те испили солёную чашу, всклень залитую слезьми. Иные закружили в пьяных кружалах и долой с глаз, из сердца вон.
На фестиваль прикатили и мои забайкальские земляки, русские и буряты; явился и знакомец Вова Липин, смахивающий на Александра Блока породистым, дворянским лицом, копной кучерявых, темно-каштановых волос, вроде мелко завитых бабьими бигудями или жарким гвоздём. Рослый, маскарадно ряженный – лакированные, остроносые штиблеты, туго приталенный, чёрный сюртук, белоснежный, жестко накрахмаленный, стоячий воротничок с загнутыми углами и черной бабочкой, – в эдаком наряде Вова Липин лихо покорял книгочейных барышень, а иных, малохольных и бледных, даже навзничь, даже в обморок повергал. Зрел воочую в молодёжной газете, где волынил практикантом, где Вова о ту пору репортёрил.
Обитали мои земляки в гостинице «Сибирь», коя до пожара игриво выгибалась против университетского корпуса, где я о ту пору протирал заплатные штаны на студенческой лавке. И вот погожим осенним вечером завернул я на огонёк земляческий. Робко, – живые писатели, – стеснительно вошёл в гостиничные «апартаменты» – комнаты в общаге краше выглядят – где обитал Вова Липин; а там степняки и табунились: дым коромыслом, вино рекой, в реке плавает ржавая селёдка на закусь. Сумрачно пили забайкальские самородки, перемывая косточки иркутским писателям, что проволочили по кочкам их «нетленные творения».