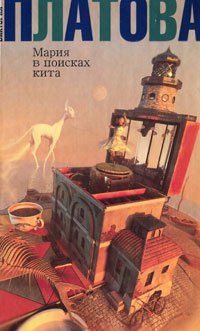У Даниеля была привычка кокетничать с его скорой кончиной, которая убедила меня в том, что это скорее метод обмануть смерть. И если бы на свете существовал хоть один бессмертный человек, то им оказался бы Даниель, обреченный на смерть.
Каждый вечер Даниель оборачивал ноги уксуснокислыми, пропитанными глиноземом салфетками — привычка, оставшаяся у него еще со школьной скамьи, и он никак не мог отказаться от нее. Поэтому, когда мне приходилось ночевать у него, я чувствовал себя стойким микробом в только что вымытой кофеварке.
Стоит также сказать, что Даниель вел свою так называемую настоящую жизнь без особых проблем. Он был шефом спортивной редакции весьма солидной газеты, своего рода гуру спортивных эссе. Питался он отвратительными салатами из тунца или индюка, которые казались вкусными только ему. Любил свою эксклюзивную граппу.[41] Зарабатывал вдвое больше меня. И, несмотря на пробивающуюся седину, все еще был популярен среди женщин. Итак, если смотреть на него субъективно, это была мумия, завернутая в уксусные бинты, положенная в саркофаг на алтарь своей юности и вынужденная рассказывать скучающему Осирису о важности своих бесконечных кошмаров. Но объективно это был везунчик с поразительно высокой долей успеха почти во всех областях. Его единственным пороком помимо граппы была труднообъяснимая одержимость дешевыми научно-фантастическими произведениями (чем банальнее, тем лучше), которыми он стремился заразить все свое окружение. На самом деле он выздоровел много лет назад.
Мы встретились в кафе «Базар», и так как я пришел немного раньше, то заказал себе кофе по-венски. Тут к двери подлетел Даниель, неприлично загоревший для середины зимы. Он стряхнул с зонта снег прямо в кафе, обнял меня и плюхнулся на скамейку.
— Эта сырость, — так звучало его приветствие, — еще доконает меня. Радуйся, что тебе не нужно здесь жить. Тут заплесневеешь еще при жизни.
Он еще даже не присел, а перед ним уже стояла бутылка граппы. Невыносимый запах ударил мне в нос.
Ну вот, оно снова здесь — зальцбургское искушение. Передо мной стоял поднос, словно манящая Лорелея,[42] полный тортов, пирогов и рулетов. Как знакома мне эта песня.
— Господин желает чего-нибудь сладкого?
И я позволил себе налететь на рифы: взял кремовую трубочку, кусок торта, пропитанный пуншем, и — чисто символически — земляничный кораблик.
— Кажется, у тебя все в порядке. — Даниель чокнулся с моей кремовой трубочкой. — После твоего звонка я заволновался.
Мой рассказ иногда прерывался фырканьем Даниеля, когда он уже не мог сдерживаться. Если я отвлекался на пирожное, он не воспринимал это как приглашение к ответному монологу, а ждал, когда я прожую и продолжу рассказ. Он не проронил ни единого слова, пока я не закончил. За окном появился туман, медленно опускавшийся на гладь реки.
— Забудь, — сказал Даниель. Его приговор. Обжалованию не подлежит. Слово десятиборца.
— Счет, — сказал я официанту, как раз заходившему на посадку с новым стаканом граппы на взлетно-посадочную полосу, раскинувшуюся перед моим другом.
— Не будь ребенком, — сказал Даниель и потом, повернувшись к официанту, добавил: — Принесите, пожалуйста, этому большому ребенку мерло. Только в бутылочке, а то он опять все разольет.
— Хорошо, мои возражения тебе знакомы. Из этого ничего не выйдет. Даже если бы у нее не было друга. Что ты можешь ей предложить?
— Она видела меня, и моя внешность ее не оттолкнула. Она с удовольствием разговаривает со мной. Охотнее, чем со своим другом.
— Она молода. Возможно, она тобой восхищается. Кто знает? А может, у нее был замкнутый толстый папа. На какое-то время ты займешь его место, но никогда не станешь таким, как она. Очарование, разочарование. Ты же знаешь, mon cher.[43]
— Черт возьми, Даниель. Я и сам могу сыграть мудрую гувернантку. Ты же знаешь, именно эту роль я всегда прекрасно исполняю, даже лучше, чем нужно. Но в зрительном зале тоже я, и мне совершенно не нравится то, что происходит на сцене. Довольно пошлая постановка, хотя исполнитель главной роли играет в партизанском ревю. Он сносный, но запуганный сомелье, ко всему прочему университетский книжный червь. Ожиревший и асексуальный, ожидающий скорой умственной пенсии. И это должно ему — мне — нравиться? Ты мне это советуешь?
Слегка покачиваясь, Даниель с усилием поднялся со скамейки. Потом с силой вскинул левую руку и, изобразив пальцами ножницы, радостно уведомил всех гостей:
— Этим я открываю новую жизнь первого рыцаря джедая[44] с избыточным весом — профессора Александра Марковича. Да пребудет с ним сила.
После того как нас вежливо выставили, уже сидя дома у Даниеля, мы курили гаванские сигары, которые ему якобы подарил Хавьер Сотомайор,[45] чемпион мира по какому-то виду прыжков, после интервью. После глотка граппы Даниеля понесло: у него появился блеск в глазах и он знал ответ на любой вопрос.
— Напиши ей стихи.
— Что???
— Начни снова писать. Стань хорошим. Убеди ее. Она должна полюбить каждое стихотворение, которое ты ей прочтешь.
— Ты во власти граппы, amigo mio.[46] Как ты себе это представляешь?
— Делай, как твой Вордсворт. Присмотрись к своим снам. Перенесись туда. И записывай. Для нее.
— Того со снами звали Колридж. Хватит пить.
— Ну значит, как Колридж. Достань лазерный меч своей поэзии и поставь рыжего на колени. Тогда ты женишься на принцессе и человечество спасено.
— За двадцать лет я не написал ни одной строчки. Я имею в виду лирику.
— Именно. Самое время для возвращения.
— Глупая затея.
— Извини, но ты же хотел уходить из трагикомедии, в которой играешь главную роль.
— Да, но не таким образом!
— А как тогда? Сесть на диету? Заняться бегом? Сделать лифтинг?
— Ладно, забудь.
— Лучше поверь мне!
Несколько часов спустя, когда на улице уже смеркалось, я начал привычную борьбу с кроватью для гостей Даниеля, коварным антиквариатом. Я как раз пытался разложить кровать так, чтобы не остаться без пальцев, когда в дверь просунулась голова Даниеля. Ухмыльнувшись, он сказал: