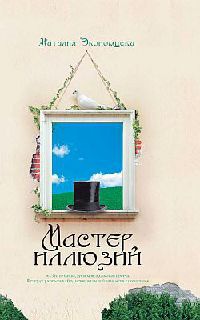Казаки
Народ как-то осел, скис. Надоело. Мужики, изрядно вспотев, сняли папахи. Они уже много дней не ночевали дома. Мылись тут же в реке. Без мыла. Дети, ввиду отсутствия сражавшихся где-то отцов, перестали ходить в школу и начали распивать спиртное прямо в подъездах. Жены, осатанев от стирки бурок и галифе, уже не приносили мужьям похлебку, разве что, и то изредка, пироги с капустой, а так, вообще, покупные котлеты, сделанные не из мяса. Надвигалась анархия. Мужики, порассевшись вокруг костра, держали совет. «Стихи — это, братва, здорово, — кричал атаман, папахой рубя воздух. — Но колбаса здоровее». Намекая на тот комфорт, которого они лишились, уйдя в казаки. «Ну да и хуй с ними, со стихами!» — выкрикнул один из толпы и даже подпрыгнул, чтобы все его видели.
Атаман не успел еще раз резануть воздух, рука зависла над головой. Таких пораженческих настроений он не ждал. Он был готов убеждать, доказывать. Объяснить про несостоятельность и даже вредность стихов — и уж только потом, с Богом, распустить казаков по домам. Но на такую позорную сдачу пойти он не мог. «Измена! — неожиданно для себя самого заорал он. — Что, сосунки, бляди перинные, тараканы запечные, по домам захотелось? Никак господа казаки подрейфили?! Опасностей испужались?!» И он потряс над ними папахой. По рядам прошел недовольный ропот и гул. Атаман зарапортовался, поскольку как раз бояться-то было и нечего. Власти молчали.
Конечно, хотелось бы написать, что власти «зловеще» молчали, «перед грозой» молчали или, на самый худой конец, «растерянно» молчали, но нет, увы, они просто молчали. Они и не подумали окружить автоматчиками «пиздодуевские склады» (как их прозвали в народе), вокруг которых вертелись лишь странного вида тщедушные штатские, одетые, как иностранцы, чисто и празднично. Не подогнали танков, которых в первые дни бунта казаки с нетерпением ждали. Но потом кто-то сказал, что танков не будет, так как власти ведут другую политику, политику «полного непротивления», и хотят взять восставших измором, что начисто вымело боевой дух, поскольку штурмовать склады без наведенных на тебя вражеских пушек — глупо. Казаки пришли в уныние.
В какой-то праздной надежде по ночам казацкий подъесаул Хрицко зондировал Кремль морским биноклем. «Ну как? Что?» — вопрошали его восставшие. «Да ничехо такохо, — неизменно отвечал он, переводя бинокль с одного чернеющего окна на другое. — Ни зхи не видать, темно, яко, прости мине хрещнохо, у жопе у нехра». И он лихо, как умеют одни малороссияне, откидывал лезущий на глаза непослушный чуб.
Обычно ночью в Кремле светилось только одно окно, в раме которого, положив перед собой сплетенные руки, сидел человек. К нему входили и выходили с докладами. И всё невзрачные, судя по виду — хозяйственники. Когда человек оставался один, он скреб ногтями поверхность стола. Подъесаул ясно видел в бинокль прочерченные белесые полосы, которые издалека походили на таинственные рисунки в пустыне Наска. Около трех утра человек поднимался, приглаживал перепончатой пятерней жидкие волосы, прыскался из пульверизатора, гасил свет. И только в эту последнюю ночь его окно не светилось, что показалось подъесаулу странным, но человек, явно штабная мелкая крыса, был настолько плюгав и хил, что подъесаул не стал занимать ерундой и без того удрученных казаков.
У Сыркина сдали нервы
В ту же самую ночь Мирону Мироновичу не спалось. В пролете домов, за рекой, он видел костры бунтарей. О бунте он сообщил в Вашингтон давно, но ему отписали, что эта внутренняя возня из-за какого-то «культурного голода», которая за Садовое кольцо вряд ли распространится, — явление настолько русское и, уже оттого, смысла лишенное, что они и ему советуют впредь на «бунт» времени не терять. В равной степени в Пентагоне не заинтересовались пиздодуевским бредом, как-то связанным с бунтовщиками, и сочли, что агент wc дробь 5 устал и сказки рассказывает, поэтому и предложили ему недельный отпуск в Сочи. Но Тимоти, озверев от косности начальства, привыкшего к одной лишь антиимпериалистической белиберде, наотрез отказался.
Мирон Миронович второй раз за ночь накапал себе валерьянки. Прежде такого с ним не случалось. Ну разве тогда, в Ватикане, в восьмидесятом, когда он занимался покушением на Войтылу и когда пошел слух, что следы ведут в Кремль, и ему, как личному другу Папы и неисправимому русофилу, пришлось выкручиваться.
Сыркин глотнул горькой травы и принялся в сотый раз сопоставлять известные ему факты. Благодаря полученной от Пиздодуева карте он многое успел разведать. Изучил подступы к типографии, прогулялся по подземельям до складов и, отстояв очередь в Мавзолей, на ходу переговорил с караульным насчет способов бальзамирования трупов, который, надо отдать ему должное, ничего об интересующем Сыркина вопросе не знал. Не беда, Мирону Мироновичу достаточно было бросить беглый взгляд на застекленную куклу, чтобы многое для него прояснилось. Но картина все равно не складывалась, а если и складывалась, то нелепая и дурная. «Ноу, хи из нот крэйзи, хи из дефинитли нот крэйзи», — говорил себе Тим, думая о Пиздодуеве. Но дальше того, что Пиздодуев не сумасшедший, мысль не шла. Тут не хватало звена, смазки, здравого смысла, если хотите. История перемещалась за пределы не только абсурдного, но и людского. О’Хара потянулся за валерьянкой и продвинулся на один шаг, но совсем не в том направлении.
«Как же я мог? — говорил он, расхаживая и потирая рукой лоб. — Бхосить этого хохошего пахня? Не пхедоставить ему пхистанища? Конспихативной квахтиры? И где он тепехь? Где он скхывается? Схвачен, хасстхелян? Или живой? Тхебующий моей поддехжки?» Это был первый серьезный прокол в работе О’Хары, прокол человеческий, так сказать, вот что важно. У Тимоти сдавали нервы.
Чтобы проверить дееспособность, Тимоти проделал ряд упражнений из руководства разведчикам: сосчитал в обратном порядке от ста; прижег себе руку на раскаленной плите и так стоял тридцать секунд — кожа трещала и лопалась, а кое-где пошла волдырями; скрутил за спиной руки, привязавшись морским узлом к стулу, а когда руки совсем занемели, разбивши стул вдребезги, принялся их отвязывать; вытащил из штанов ремень, приспособил петлей на крюке в уборной, просунул голову, оттолкнулся от табуретки, повис, но, уже задыхаясь, успел жахнуть по ремню спрятанным в рукаве скальпелем; сплел из простыней жгут и спустился на нем по внешней стороне дома — с девятого этажа на газон. Да нет, вроде с ним все было в порядке. И на том, как говорится, спасибо. Когда он вернулся в квартиру и переобулся тапочки (лифт не работал, и после подъема ныли ноги), зазвонил телефон.
Попался
«Вы там? — спросили в трубке. — С вами говорят из милиции». Мирон Миронович пополз по стене. «Дет из зе энд оф диз олл», — подумал он. Одной рукой, прямо в кармане зарядил кольт тридцать восьмого калибра отравленной пулей. Снял с предохранителя. При малейшей царапине — смерть. «Вот и все», — сказал он себе. И тут перед мысленным взором Тимоти О’Хары пронеслась вся его жизнь — убогая, походная, одинокая, в роскошных отелях Лондона и Токио, в эмирских апартаментах Багдада, Кабула, с лучшими проститутками Парижа, Харькова и Севильи. Он увидел тропические пляжи и синее бескрайнее море, снежные вершины Тибета и монгольские степи, Огненную Землю, ледники Патагонии, Синайскую выжженную пустыню, кукурузные поля Айовы; он сразу, в одно мгновенье, увидел огромный мир, который тянулся к нему ветвями деревьев, который звал его птичьими голосами, который болезненно и настойчиво входил в него, становясь все меньше и меньше, пока, наконец, не уместился весь, целиком, в маленьком кусочке свинца.