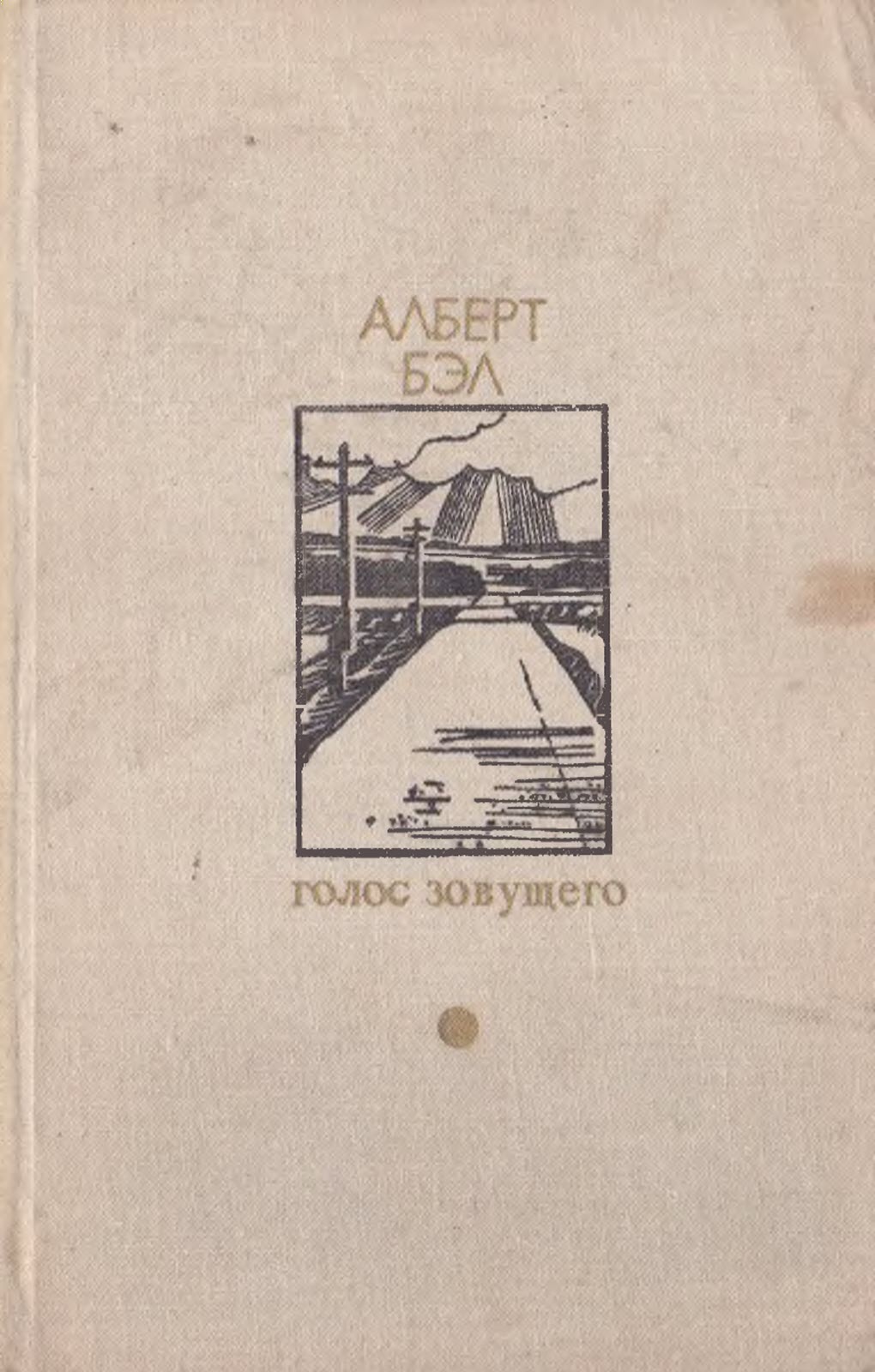не быть немецких засад. В случае удачи — через болотце в лес, а там — обходом на Вейно, куда, по предположению Баркана, отошел полк.
Спешно похоронили убитых, и сорок четыре человека, оставшиеся от роты, в полной тишине покинули траншеи, чтобы двинуться во мрак. Шли осторожно. Только жнивье шуршало под догами. Раненых несли на шинелях.
Когда вошли в лес, уже начинало светать, сонные птицы с шумом вырывались из-под ног, заставляя отряд замирать на месте. Один из раненых заметался на самодельных носилках, застонал, тело его дергалось, он словно хватал что-то, видное только ему, но недоступное, уходящее. По лицу шла судорога, и стиснутые веки мелко дрожали.
— Кончается, — сказал Бровкин.
— Опустите, — распорядился Баркан.
Бойцы положили раненого на землю и сначала один, за ним другой, третий сняли пилотки.
«Потом разберемся, лотом подсчитаем, — снова подумал Баркан. — Может быть, найдутся такие, которые, не понюхав пороху, не пройдя по болотам, предъявят счет не одному этому молоденькому командиру, Марченко, но и ему, комиссару Баркану. Конечно, счет не только за убитых немцев, „сыновей, мужей, отцов“, а и за этого умершего бойца. Может быть, может быть. Но пусть-ка они сами сначала повоюют».
Снова пробирались сквозь чащу, держа курс на Вейно, брели болотами, вязли во мхах. И в тот момент, когда трудный путь остался уже позади, когда казалось, что еще две-три сотни метров — и на открывающейся впереди просеке будут свои, — кругом затрещали автоматы, между деревьями замелькали немецкие мундиры. В первую же секунду разрывом мины наповал сразило Марченко. «Но это ничего не значит. Счет ему предъявят и мертвому. Только захоти».
Баркан подумал об этом мельком, совсем мельком. Раздумывать было некогда.
— Ребята, оставьте нас, бегите, — просили кругом раненые.
— Миша, Миша, — шептал один из них товарищу, — уходи, браточек милый. Жинке моей напиши, адрес у меня тут, на конверте. Пусть к матери, в деревню, едет. Уходи, Миша. Вставь мне в лимонку детонатор. Дай сюда…
Другой раненый сам закладывал в гранаты взрыватели и тоже просил:
— Уходите, ребята, уходите!
— Никуда мы не уйдем! — закричал Козырев. — Вы что, за гадов нас считаете, за предателей?
Впервые в своей жизни Баркан ощутил такую невероятной тяжести моральную ответственность; он не знал, на что решиться. А тот кто только что просил друга написать жене, поднялся с разостланной шинели на ноги, схватился за молодую осинку и с криком «Прощайте, ребята!» пробежал несколько шагов. Немецкие пули скосили его, гранаты в руках взорвались.
— Вперед! — закричал потрясенный Баркан. — На врагов Родины! Ура!
Порыв обреченных был так внезапен и яростен, что немцы опешили. Минуты их замешательства было достаточно, чтобы Баркану и его бойцам вырваться из кольца. Отходя, бойцы швыряли гранаты, били из винтовок. Деревья скрыли их, и немцы уже не рискнули преследовать.
Остановились только где-то в глухой чаще.
Баркан воспаленными глазами оглядел группу, подсчитал, сколько же осталось. Семнадцать. Семнадцать с ним вместе. Это были те самые ленинградцы, которые еще несколько недель назад радовались гигантскому генератору, построенному для мощной гидростанции страны, изобретали приспособления, с помощью которых на простом зуборезном станке за смену можно было изготовить деталей в десять — пятнадцать раз больше, чем обычно, насаждали парки, возводили монументальный Дом Советов на Московском шоссе, строили корабли, паровозы, блюминги. Это были те самые ленинградцы, что в выходные дни загорали на пляже у Петропавловской крепости, ездили за город, по вечерам сиживали с газетой в руках у настежь распахнутого окна, за которым двумя потоками по тротуарам не спеша текли толпы таких же, как и они, мирных граждан. И вот они сейчас — ожесточенные, полные ненависти, пролившие кровь солдаты. Кто в том виноват, с кого ответ требовать?
Все опустились на землю. У Баркана в кисете был трубочный табак. У кого-то нашлась в кармане газета. Кисет пошел по рукам, скручивались большие неуклюжие самокрутки.
Жизнь оставалась жизнью.
Целыми днями Лукомцев разъезжал по фронту дивизии, которая, отойдя от Вейно, снова заняла оборону. Однажды, встретив в лесу нескольких бойцов, отбившихся от своей роты, он по возвращении в штаб раскричался:
— Что это за войско у нас с вами, майор, что за войско? Какой-то бродячий цирк, а не дивизия!
— Преувеличиваете, ей-богу, преувеличиваете, товарищ полковник, заговорил Черпаченко. — Скорее всего это не наши, а соседи болтаются по лесам. У нас же ополченцы, народ, сами знаете, какой.
— Чем утешаетесь! Соседи! Даже если соседи — нам с вами от этого не легче. Если сосед силен, то и ты силен. А сосед плох — и ты плох. Это же война. И я заявляю, что с каждым разгильдяем буду расправляться беспощадно.
В эту минуту в землянку вошел связной и остановился у двери.
— Чего тебе? — спросил Лукомцев.
— Задержан человек. Говорит, с пакетом. Лично командиру.
Появился боец в изодранной, до черноты грязной гимнастерке, заправленной в брюки, на которых не было ни одной пуговицы, они держались только потому, что были опоясаны телефонным проводом. На ногах у бойца разбитые, разинувшие полный гвоздей рот старые опорки.
— Разрешите обратиться?
— Что за вид! — рявкнул Лукомцев. — Кто вас послал?
— Комиссар батальона службы воздушного наблюдения, оповещения и связи политрук…
— Так передайте ему…
— Он в тылу у противника, раненый, товарищ полковник.
Лукомцев зло развернул замусоленный листок. Вертел его и так и этак и ничего не мог разобрать, кроме даты.
— Вы что же, одиннадцать дней доставляли сей, с позволения сказать, пакет? Ваша фамилия?
— Ермаков.
— Скажите прямо, Ермаков, откуда вы сбежали?
Из Ивановского, товарищ полковник, из немецкого плена.
— Как? — переспросил Лукомцев. — Откуда?
И Ермаков, лихой загуринский шофер, рассказал, как он пробирался лесом с бойцами четырнадцатого поста, как нарвались они на немецкий секрет и были схвачены, как прятал он записку Загурина сначала в голенище, а потом, когда немцы отняли сапоги, скрывал ее и между пальцами, и под мышкой, и во рту.
— Под конец я, товарищ полковник, не стерпел, кокнул ночью часового булыжником и дал с ребятами тягу. Да только вот растерялись, остался я один. Думал в Оборье пробираться, где рота стояла, да Оборье-то уже у немца. Вот нашел теперь вас… И правду вы сказали, сильно опоздал, не та дата получилась, товарищ полковник. За это винюсь. Виноватый, словом. Политрук мне наказывал, как можно скорее. А я…
— А как ты думаешь, что с твоим комиссаром?
— Думай не думай, товарищ полковник, раненый он. Хоть не сильно, а раненый.
Наутро Ермаков, подтянутый, выбритый, в новом обмундировании, явился за распоряжениями. Лукомцев с интересом оглядел его, внутренне усмехнулся тому, что голова у бойца под