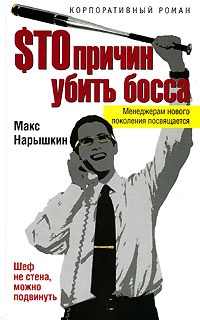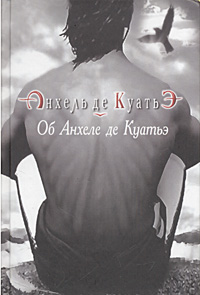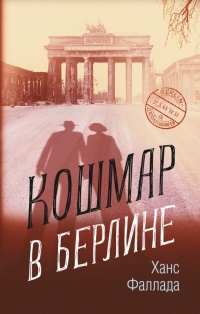– Н-да, этого они нам, конечно, не разрешат, нож не дадут. Нам ведь нельзя оставить палача без заработка, Квангель!
Помедлив, Квангель сказал:
– Как это вы, доктор, все время играете в шахматы сам с собой? Можно ведь и с другими играть?
– Да, вдвоем. Хотите научиться?
– Наверно, мне ума не хватит.
– Чепуха! Прямо сейчас и попробуем.
И доктор Райххардт захлопнул книгу.
Так Квангель научился играть в шахматы. К собственному удивлению, научился очень быстро и без труда. И снова убедился, что прежняя его оценка здесь тоже была в корне ошибочна. Раньше, глядя, как двое мужчин в кофейне передвигают туда-сюда по доске деревянные фигурки, он находил их занятие нелепым и ребяческим: чисто дети, только время убивают, говорил он.
А оказалось, передвигание деревянных фигурок способно принести своего рода счастье, ясность мысли, глубокую, искреннюю радость от красивого хода, неожиданное открытие, как мало значат победа или поражение, потому что радость от красиво разыгранной партии, в которой он потерпел поражение, намного больше, чем от игры, в которой он благодаря ошибке доктора одержал верх.
Теперь, когда доктор Райххардт читал, Квангель сидел напротив, над доской с черными и белыми фигурами, положив рядом книжечку издательства «Реклам» – «Шахматный учебник» Дюфрена, – и отрабатывал дебюты и эндшпили. Позднее он перешел к переигрыванию целых классических партий, его ясный, трезвый ум с легкостью запоминал двадцать-тридцать ходов, и скоро он стал играть лучше доктора.
– Шах и мат, господин доктор!
– Опять вы меня обставили, Квангель! – сказал доктор и, приветствуя противника, склонил своего короля. – У вас есть все задатки, чтобы стать очень хорошим шахматистом.
– Я, господин доктор, теперь иной раз думаю, что раньше даже не подозревал, как много у меня всяких задатков. Только с тех пор как познакомился с вами, с тех пор как пришел умирать в этот бетонный каземат, начал осознавать, сколько всего в жизни упустил.
– Наверно, так происходит с каждым. Каждый, кто должен умереть, а в первую очередь каждый, кто, как мы, должен умереть до срока, наверно, огорчается из-за всякого растраченного впустую часа своей жизни.
– Но со мной дело все-таки обстоит иначе, господин доктор. Я всегда думал, вполне достаточно делать как следует свою работу, не халтурить. А теперь вот выясняется, что мог бы делать еще много чего – играть в шахматы, проявлять внимание к людям, слушать музыку, ходить в театр. В самом деле, господин доктор, если бы перед смертью у меня спросили, каково мое последнее желание, то я бы хотел увидеть вас с вашей палочкой на большом симфоническом концерте, как вы его называете. Любопытно мне, как это выглядит и как на меня подействует.
– Человек не может жить всем одновременно, Квангель. Жизнь очень богата. Вы бы разорвались на куски. Вы делали свою работу и всегда ощущали себя цельным. Ведь на свободе вы ни на что не жаловались, Квангель. Писали свои открытки…
– Но от них не было никакого толку, господин доктор! Я думал, меня удар хватит, когда комиссар Эшерих сообщил, что из двухсот восьмидесяти пяти написанных мной открыток двести шестьдесят семь попали к нему! Только восемнадцать им не достались! Но и эти восемнадцать ничего не достигли!
– Кто знает? По крайней мере, вы противостояли злу. Не сделались таким же злодеем. Вы, и я, и многие, что сидят здесь и в других тюрьмах, и десятки тысяч в концлагерях, – они по-прежнему противостоят, сегодня, завтра…
– Да, а потом нас убьют, и много ли проку тогда от нашего сопротивления?
– Для нас – много, потому что мы до самой смерти можем чувствовать себя порядочными людьми. И еще больше – для народа, который будет пощажен ради праведников, как говорится в Библии. Видите ли, Квангель, разумеется, было бы в сто раз лучше, если б нашелся человек, который говорил бы нам: вы должны поступать так-то и так-то, у нас такой-то и такой-то план. Но будь в Германии такой человек, тридцать третьего года никогда бы не случилось. Вот нам всем и пришлось действовать в одиночку, и переловили нас поодиночке, и умереть каждому тоже придется в одиночку. Но мы ведь все равно не одиноки, Квангель, и умрем все равно не напрасно. В этом мире ничто не происходит напрасно, а поскольку мы боремся за правое дело против грубой силы, то победа в итоге все равно будет за нами.
– И что проку нам от этого, под землей, в могилах?
– Но, Квангель! Вы предпочли бы жить ради неправого дела, а не умереть за правое? Выбора-то нет, ни для вас, ни для меня. Поскольку мы такие, как есть, мы не могли не пойти этим путем.
Оба надолго умолкли.
Потом Квангель опять начал:
– Шахматы эти…
– Да, Квангель, что с ними не так?
– Иной раз мне кажется, я поступаю недостойно. По многу часов думаю только о шахматах, а ведь у меня есть жена…
– О своей жене вы думаете вполне достаточно. Вы хотите остаться сильным и мужественным, значит, для вас полезно все то, что придает вам силу и мужество, а все то, что внушает слабость и сомнения, как раз плохо, например ваши раздумья. Что проку вашей жене от этих раздумий? Ей будет полезно вновь услышать от пастора Лоренца, что вы сильны и мужественны.
– Но при нынешней сокамернице он ничего не может сказать Анне в открытую. Пастор тоже считает эту особу шпионкой.
– Пастор сумеет дать вашей жене понять, что у вас все в порядке и что вы чувствуете себя сильным. В сущности, тут достаточно кивка или взгляда. Пастор Лоренц знает, что делать.
– Мне бы очень хотелось передать через него Анне записочку, – задумчиво сказал Квангель.
– Лучше не надо. Он не откажет, но вы поставите его жизнь под угрозу. Знаете ведь, ему здесь не доверяют. Плохо, если и наш добрый друг попадет в такую вот камеру. Он и без того, вообще-то говоря, каждый день рискует головой.
– Тогда я не стану писать записку, – сказал Отто Квангель.
И правда не стал, хотя на следующий день пастор принес ему дурную весть, очень дурную, в особенности дурную для Анны Квангель. Сменный мастер только попросил пока что не сообщать эту дурную весть его жене.
– Не сейчас, господин пастор, пожалуйста!
И пастор обещал:
– Хорошо, пока что не стану; вы скажете, когда будет можно, господин Квангель.
Глава 59
Добрый пастор
Пастор Фридрих Лоренц, неустанно исполнявший в тюрьме свою службу, был мужчина в расцвете лет, то бишь около сорока, очень высокий, узкогрудый, вечно покашливавший, отмеченный печатью туберкулеза, но пренебрегавший болезнью, потому что работа не оставляла ему времени на заботы о собственном здоровье. Лицо бледное, безупречно выбритое, темные глаза за стеклами очков, тонкий нос с узкой переносицей, бакенбарды, крупный, бледный, узкогубый рот и крепкий круглый подбородок.