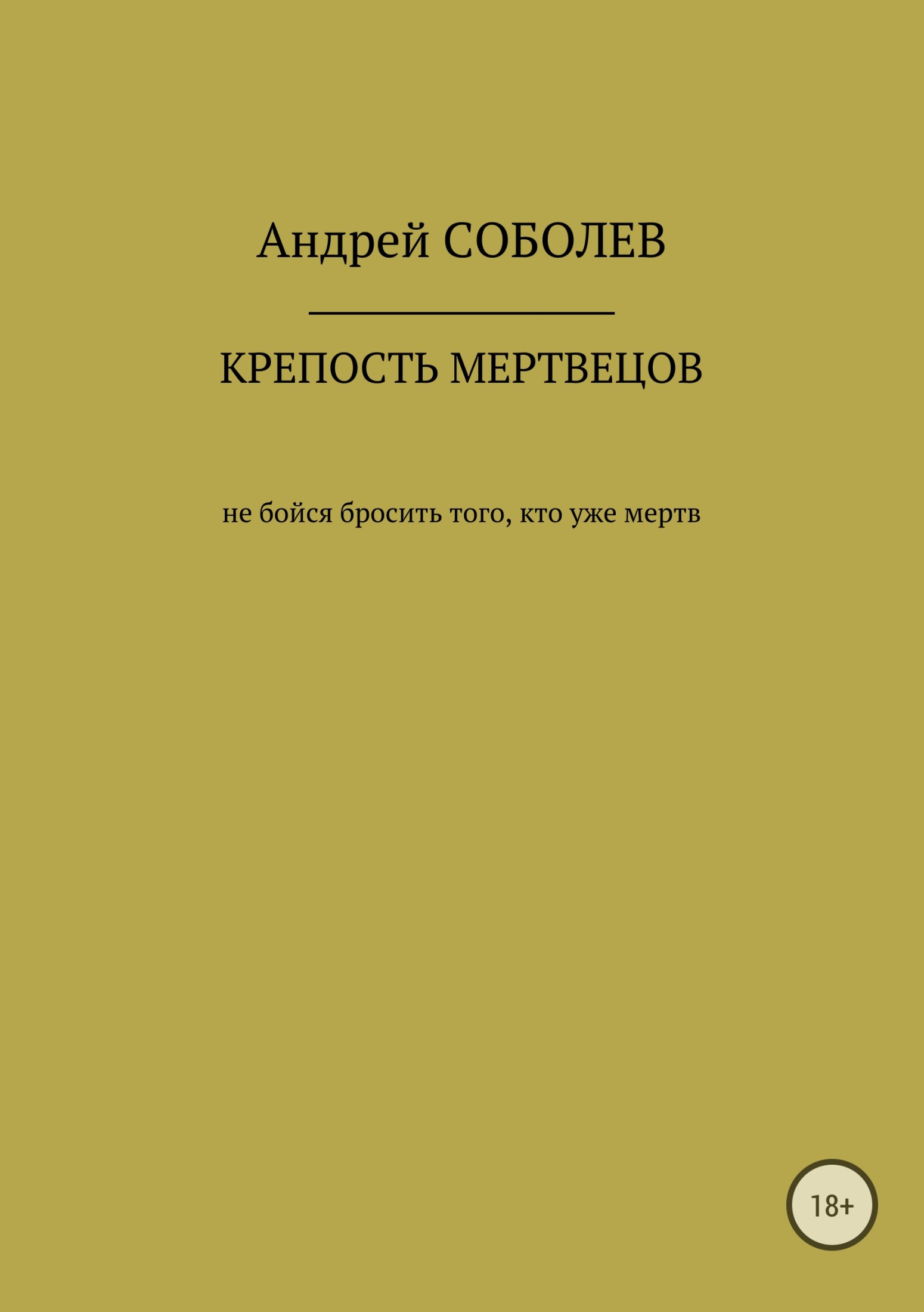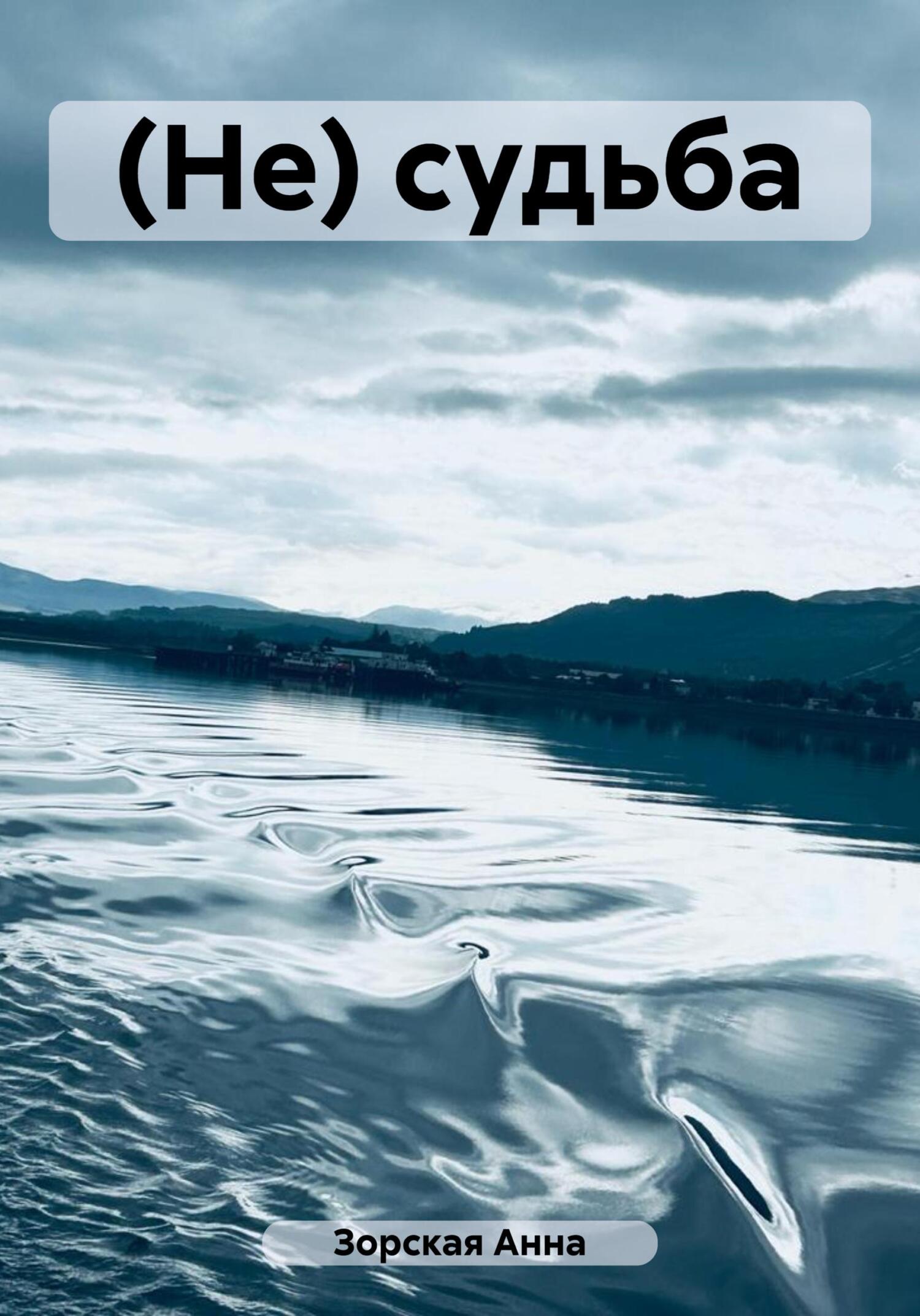борцов, и таскал в кармане пиджака что-то тяжело бугрившееся. Успели мы с ним изучить немного – примерно в середине первого из прошедших времен он, извинившись, отменил ближайшее занятие, после чего благополучно канул в Лету. Мамарина, которая вообще по привычке смотрела на все мои попытки раздобыть денег с особенным надменным любопытством, однажды подрядилась написать серию статей для маленького эмигрантского журнальчика, робко проклюнувшегося в одном из захолустных польских городков и по неопытности вербовавшего себе сотрудников где ни попадя. Несколько дней она пребывала в муках сочинительства, извела кучу бумаги (причем по вологодской памяти она была уверена, что ее прихотливая муза согласится снизойти лишь на особые вержированные листы ручной выделки), изгоняла с самого утра нас со Стейси из дома, чтобы мы не спугнули вдохновение, – и в результате, перебелив и отдав ремингтонировать свой шедевр («Горячие советы о красоте дамам и мужчинам» или что-то в этом роде), выяснила, что журнальчик почил, не успев толком расправить свои бумажные крылья.
Шить я не умела, равно как штопать или вязать; брать на дом чужое белье для того, чтобы стирать его и гладить, казалось мне уже каким-то совсем низменным занятием, да и, решившись на него, пришлось бы вступить в конкуренцию с мириадами туземных женщин, в которой я заранее была обречена на поражение. Неожиданное происшествие несколько лет назад подсказало мне утомительный, но постоянный источник довольно скромного дохода. Мы жили тогда в швейцарском Веве, поселившись в маленьком пансионе на улице Палю (солнце действительно жарило в те дни немилосердно). Поскольку в любом месте, куда бы ни заносила нас судьба, я старалась непременно выводить Стейси как минимум на двухчасовую прогулку, в первый же день, едва распаковав вещи, мы отправились пройтись – и буквально через несколько шагов вышли к кладбищу. Я уже, кажется, упоминала выше, что всегда очень любила гулять среди могил: не говоря уже, что от людей меньше всего бывает беспокойства, когда их тела оказываются в двух метрах под землей, но и само умиротворяющее сочетание живого дерева и мертвого камня хорошо врачует мою вечную тревожность. Мамарина, пытавшаяся прежде протестовать против того, чтобы маршруты наших прогулок пролегали через кладбища, в какой-то момент махнула на это рукой, так что мы со Стейси, хоть и не разыскивая погосты специально, всегда пользовались случаем туда заглянуть. Между прочим, по надписям на могильных камнях мы практиковались в чтении на разных языках, так что, едва пройдя аллеей пирамидальных тополей и углубившись в геометрически расчерченные кварталы надгробий (есть, конечно, внутренняя связь между планировкой города и разбивкой кладбища, куда со временем переселяются его жители), Стейси стала читать вслух высеченные на камнях имена. Мне показалось, что, может быть, как-то похоже будет выглядеть картина Страшного суда – ангел или агнец, возглашающий своим детским голоском имена покойников. Впрочем, в этот раз никто не пытался встать из могилы.
Здесь лежали целыми семьями, раскидистыми генеалогическими древами, начиная чуть не с пятнадцатого века: если вдуматься, странной кажется ситуация, когда прабабка знакомится со своим потомком, лишь когда он оказывается в соседнем гробу. С другой стороны, был в этом и след какой-то успокоительной убежденности – когда на здоровенном сером гранитном камне значится чуть не полсотни имен, причем последние – лишь с годом рождения и оставленным прочерком. Для нас, беглецов из погибшей страны, в этом виделась самоуверенность, граничащая с наглостью, – а они лишь воспользовались оптовой скидкой у каменотеса и попросили перечислить на надгробии всю наличную семью, чтобы потом не переплачивать.
Веве находится во франкоязычном кантоне, так что имена попадались нам сплошь французские, но когда мы отошли уже на порядочное расстояние от входа, Стейси вдруг остановилась: вместо очередного Ксавье или Франсуазы на камне значилась совершенно несомненная Алевтина Семеновна, причем записанная кириллицей. После этого русские могилы пошли все чаще – оказалось, что здесь, на берегу Лемана, выросла целая русская мертвая деревня. Как мне показалось, основными ее обитателями становились две категории лиц из тех, что в обычной жизни вряд ли могли бы встретиться, разве что случайно столкнувшись на улице: с одной стороны, помещики и аристократы, лечившиеся или просто жившие в Швейцарии и нашедшие здесь свой земной предел, а с другой – студенты и политические эмигранты наподобие тех, с которыми якшался покойный Лев Львович и из среды которых происходила его первая жена.
Почти немедленно у меня появился и еще один повод вспомнить его рассказ. Мы медленно шли по узкой тропинке между двумя рядами надгробных плит. Был жаркий день, и над кустами бирючины, густо росшей на могилах, вились с тяжелым жужжанием пчелы и шмели. Опасаясь, чтобы кто-нибудь из них не ужалил Стейси, я, несмотря на ее протесты, прошла вперед, поглядывая по сторонам, когда на одной из могил вдруг заметила собственное имя. Точнее сказать, видно было только слово «Серафима», а отчество уже, не говоря про фамилию, было закрыто густо разросшейся травой. Отворив скрипнувшую калиточку (даже ограды были здесь сделаны по русскому обычаю) и наказав Стейси стоять на месте и ни в коем случае не отмахиваться от насекомых, я попыталась пройти поближе, чтобы разглядеть выбитые на камне буквы. Весь участок густо зарос сорной травой вперемешку с молодым подлеском: видно было, что здесь давно уже никто не бывал: очевидно, Серафима была одинокой. Перед самым надгробием молодые березки и осинки сплелись в вовсе непроходимую завесу, так что мне пришлось буквально продираться сквозь нее, словно зверю, преследуемому охотниками. И как раз в тот момент, когда я наконец подобралась к самому камню, Стейси за моей спиной сдавленно вскрикнула.
В первую секунду мне показалось, что над девочкой навис огромный бурый медведь, но, повернувшись, он обнаружил свою человеческую природу: это был огромный детина с черными спутанными волосами и клочковатой, век не стриженной бородой, одетый в какое-то подобие солдатской шинели. «Заслышав русскую речь, – пророкотал он, – не мог не отрекомендоваться. Семен Федорович Небожаров, к вашим услугам».
Сквозь сердцебиение, вызванное неожиданной встречей, я лихорадочно соображала, откуда мне известно это имя, – и быстро вспомнила: это был тот самый нищий, который много лет назад отправил Рундальцова с письмом к его будущей жене, определив тем самым всю его судьбу. Если бы он не полюбил Елену Михайловну и не последовал бы за ней в Тотьму, он не встретил бы Мамарину, не зачал бы с ней девочку и, вполне возможно, не был бы расстрелян взбесившимися матросами. Покуда я размышляла, стоит ли рассказывать ему о том, какую роль он сыграл, он всмотрелся в Стейси (которая