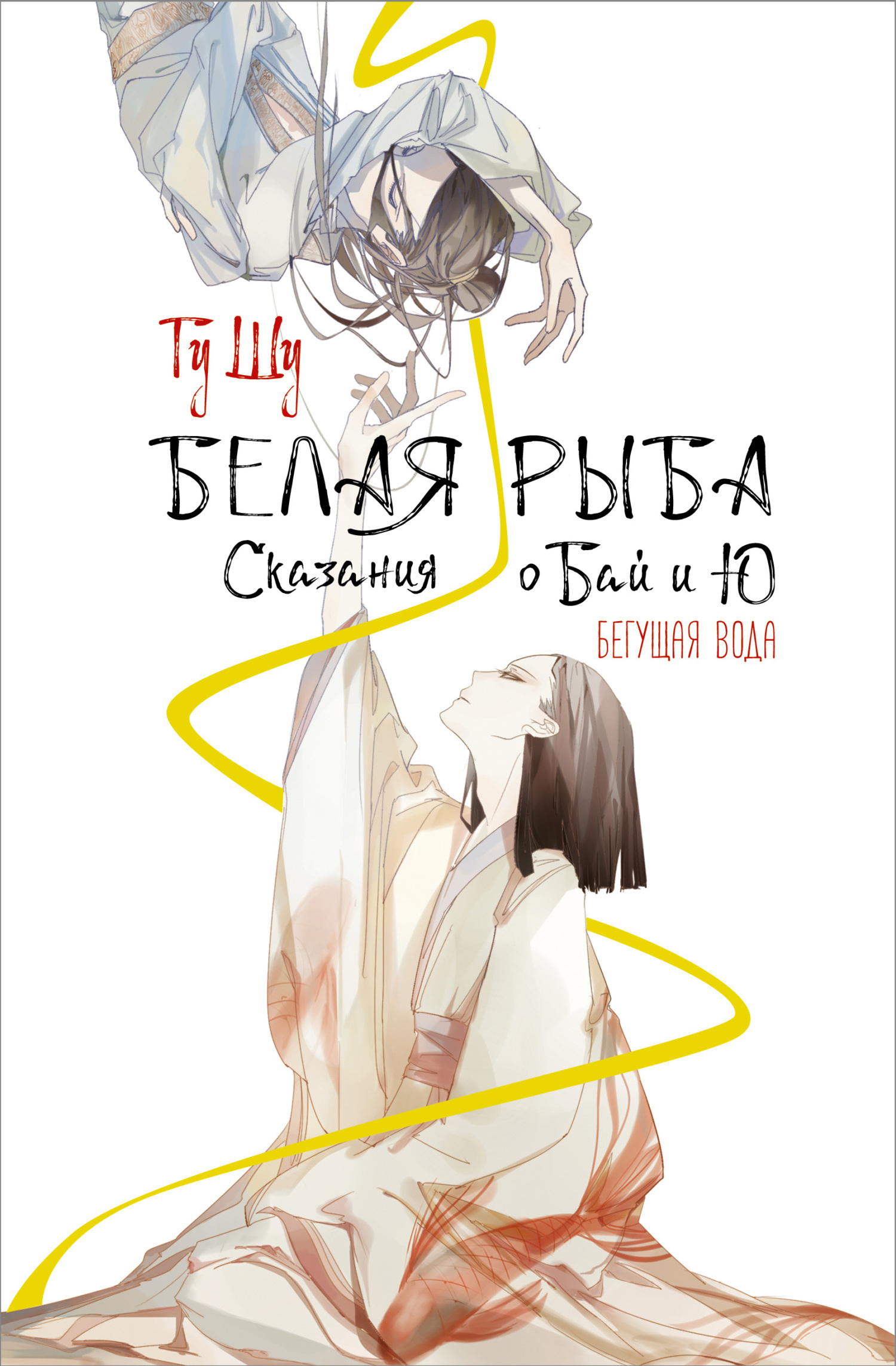уйти, да старая нянька тоже оземь кинулась, чёрной вороной давай его нагонять! Вот уж сцепились, когтят друг друга, перья так и летят.
Один из дружинников лук достал. Как разлетелись птицы в разные стороны, пустил он стрелу и пронзил сову. Та оземь упала и человеком стала, лежит недвижно.
Тут хохлик, домового помощник, углядел да заверещал:
— На шее у него нож-то! На шее!
Василий метнулся, шнурок мечом срезал, да колдун опомнился и в него вцепился.
Тут уж все в бой ринулись! Молотят колдуна всем скопом, оттягивают, держат, а Василий нож ломает — изломать не может!
— Дай мне! — кричит Горыня.
Да что с ножом ни делают, тот цел-целёхонек. Тихомир уж его мечом рубанул, а ножу хоть бы что. В это время колдун зарычал по-звериному, рысью оборотился, из рук выскользнул. Хочет прыгнуть, выхватить нож и бежать, да тут медведица подоспела, ухватила за спину.
Только рысь-то быстра, сильна. Вывернулась она, когтями бурое плечо полоснула. Заревела медведица от боли.
Вертится рысь, не подступиться, уж в горло метит. Чёрный волк из последних сил подняться хочет, да лапы не слушают. Ползёт, скулит.
— Доченька! — закричал тут Добряк.
Оземь упал, встал на лапы уже медведем, от портов да рубахи одни клочья остались. Сам тяжёлый, косматый, всех растолкал, рысь ухватил, треплет. Да как головою мотнёт, рысь так и отлетела.
А нож тот проклятый ничего не берёт, а ведь пока он цел, с колдуном не совладать.
— Знаю! — вскричал Василий. — Мне дайте! Гришка, сюда!
Тихомир и бросил ему нож. Василий вскочил на спину змею Гришке, да и погнал его по полю. Рысь тут же за ними вдогон пустилась, за нею серый пёс кинулся с лаем. Марьяша тут на коня взлетела, и следом! А за нею и все дружинники, кто мог в седле усидеть.
Примолк народ, тихо-тихо стало.
— Да что ж он задумал? — слышно, бормочет кто-то.
Тут из-под холма звон раздался: кузнец ударил по наковальне. Вот опять, опять — разнёсся звон окрест!
Вот уж и всадники возвращаются. Приволокли колдуна — седого, слабого, — наземь бросили, а он и встать не может. Ноги не держат, голова трясётся, глаза моргают подслеповато. Тут же царь велел его вязать да везти в стольный град, в темницу.
В это время на дороге показался народ. Идут с вилами, с косами, с дубинами. Всё же явились на бой, да припозднились. Что ж, зато на праздник останутся.
Всем хорошо, у всех веселье. По полю Василий с Марьяшей идут, обнявшись, уж никуда не спешат. Царь с царицей на сына наглядеться не могут. Даже не умер никто, а раны — что раны, зарастут.
Только Умила над волком всё плачет. Слетела с неё медвежья шкура, будто туман развеялся. Бажена охнула да одеялом её прикрыла, а Умиле что? Не замечает ничего, чёрную морду гладит, шепчет:
— Не оставляй меня, любый мой, прости за слова злые! Уж буду ждать, — не оставляй!
У самой плечо рысьими когтями располосовано, вся в крови. Волк её пальцы лижет, скулит — о себе, мол, подумай! Не оставлю. Не оставлю…
Добряк её зовёт — не дозовётся, Бажена просит в дом уйти, рану промыть — не допросится. Умила от волка рук не отнимает, взгляда не отводит. Всё кажется ей, будто на миг его покинет, он тут же дух и испустит, будто её мольбами только и держится.
Подошла к ним Ярогнева, руки в бока упёрла и говорит:
— Ну, девка! Ишь, разлеглась! Поднимайся, идём, погляжу на твои раны, да заодно и поведаешь мне, что на волке твоём за проклятие.
Умила тут голову подняла и спрашивает:
— Зачем?
— Обещать не обещаю, да вдруг теперь снять получится. Да не помрёт он, не бойся!
Увела её Ярогнева, да скоро Умила из дома вышла уже одетая. На колени перед Завидом встала, улыбнулась, говорит:
— Подожди, милый, ещё чуть!
Да в лес ушла, а зачем, не сказала.
А уж смеркается. Народ за столами сидит, ест да пьёт, смеётся. Песни затянули, костры разожгли. Кикиморы, от людей не прячась, рядом сидят, водяницы в озере поют.
Подошёл к Завиду Дарко.
— Ты ведь мне жизнь спас! — говорит. — Ввек я этого не позабуду, брат.
Горазд с Невзором тоже рядом сели.
— Ничего! — говорят. — Заживёт рана. Да что ж это старая нянька задумала? Неужто сумеет одолеть проклятие?
— Она, вишь ты, вороной летала, птицей чёрной, — тревожно сказал, подходя, и Пчела. — Кабы не наложила на тебя проклятья похуже! Ну, можно ль ей верить?
Подсел и Василий, тоже благодарил. А волк всё на лес поглядывает и ждёт, да нет Умилы. Вот уж совсем стемнело, уж и леса не видно. Куда же она пошла? Ведь сама изранена. По следу бы пошёл, одну её не оставил, да сил нет…
Он едва поднялся, воды похлебал. На нетвёрдых ногах покачивается, и больно ему, и голова тяжела, всё клонится, да ещё знобит.
Тут видит — кто-то от леса идёт, будто рубаха белеет. Сердце вещее так и подсказало: это Умила к нему спешит. Он и захромал навстречу. Поле черно, небо черно и лес чёрен, а вокруг горят костры. Самый высокий пляшет вокруг столба, тянется к тележному колесу, вот и оно занялось.
Бредёт через поле волк. То видит белую рубаху, то мрак её прячет, а то огонь вскинется и будто слизнёт языком. Да он знает, что Умила там, и упрямо идёт к ней.
Вот уж видно: она, точно она. Не утерпела, со всех ног к нему побежала. У самой на плече, на рубахе кровь проступила, а его оглядывает да укоряет:
— Что же тебе не лежалось!
Прильнул он к её ноге, так шаг по шагу и дошли.
А Ярогнева уж велит со столба колесо снять. Сбили его, подхватили прутами, да в озеро и загнали со смехом. Вынули, середину выбили, тут Ярогнева и говорит:
— Вот и ворота, что понизу круглы и поверху круглы, были огненные, да теперь погасли. Ну, девка, собрала ль купальские травы?
Умила ей охапку всякого зелья и подала. Вот за чем в лес ходила!
Обвязали обод лесными травами, Ярогнева и говорит Завиду:
— Ну-ка, пролезай!
Он стоит, покачивается. Неужто этак просто? Как долго он бился, птицу-жар добывал, сколько всего было — а проклятие снимется этак легко?
Дарко и Божко обод держат, ждут. Умила с той стороны на него глядит, присела, руки тянет, к себе зовёт. Он и пошёл в её руки. Чёрным волком шагнул, а выбрался человеком.