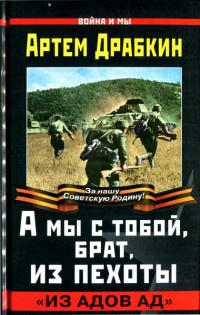В порыве гнева Райнхарт так взмахнул ложкой, что случайно задел блюдце, которое полетело на мозаичный пол, опрокинув чашку и ее содержимое.
В это мгновение дверь открылась и в кафе вошла дюжина военных. Похоже, они сильно замерзли, потому что быстро расселись вокруг печки, забыв о правилах приличия. Напряженные, мрачные лица…
— Чем занимаешься, Райнхарт?
Командир группы, которого можно было безошибочно определить по манере поведения, перегнулся через стол к Райнхарту, впопыхах собиравшему осколки.
— Блюдце разбилось, герр Голтайер. Жаль, конечно, уж очень оно было красивое. Мейсенский фарфор. Мой старый приятель держал там фабрику и поставлял мне довольно изысканные вещицы.
— А я еще думал, откуда у тебя такая посуда? Слишком дорогая для кафе. Я решил, что она досталась тебе от какого-нибудь поляка или еврея. Guten morgen, Fräulein[22].
Он поприветствовал Мими, но, видимо, не узнал ее.
— Кофе, Райнхарт, для всех этих джентльменов. И возьми вот это.
Голтайер протянул мятый коричневый пакет. Худощавая официантка взяла пакет, и вся компания, не мешкая, расселась за столами. Бритые головы, красные носы и трясущиеся руки. Мими отодвинулась к печке. Солдаты вели себя бесцеремонно.
— Похоже, дела твои не очень, а, Райнхарт?
Поскольку фраза прозвучала скорее как утверждение, чем как вопрос, Райнхарт пожал плечами, поднимая последний осколок блюдца.
— В Новый год всегда тихо, герр Голтайер.
— Не то что вчера вечером, да?
В словах Голтайера был намек, который заставил Райнхарта содрогнуться и привлек внимание сидящих за столом. Они приняли стойку, подобно стае собак, готовых броситься на жертву.
— На празднике всегда шумно, герр Голтайер. Некоторые гости не пошли домой из-за комендантского часа. Я решил уложить их на полу. Все же лучше, чем попасть под пули военной жандармерии.
— Очень умно, Райнхарт. Но шум, о котором я говорю, был слишком громким. Дежурные, и те слышали, что здесь творилось, и, честно говоря, были шокированы, не так ли, господа?
Господа послушно закивали.
— Я подаю напитки, герр Голтайер. Солдаты любят петь что-нибудь или просто громко кричать, особенно если выпьют лишнего. Выпускают пар, так сказать. Они заслужили немного отдыха, особенно после того, через что им довелось пройти. Ведь Новый год… И я подозреваю, что кто-то из ваших подчиненных слышал матерные слова.
Лицо Голтайера словно застыло и не изменилось даже тогда, когда официантка поставила на стол высокий кофейник. Сквозь неприятный запах кофейного заменителя прорвался аромат настоящего кофе — воспоминание о прежней мирной и счастливой жизни. На секунду кафе превратилось в изысканный салон, который посещают дамы в дорогих мехах, с сигаретами в портсигарах, но кашель одного из солдат спугнул это странное видение, и оно бесследно исчезло. Мими посмотрела на Голтайера и заметила свежий шрам возле его левого уха. Он явно нервничал, поскольку у него на лбу выступили капельки пота.
— Не играй со мной, Райнхарт. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Кто-то трусит? Кто-то позволяет себе говорить вещи, которые не понравились бы их матерям? Это война, понятно? Мне не нравится, что плетет этот сумасшедший, а фюреру тем более не понравится. Что он себе позволяет! Мы должны покинуть город до прихода Красной Армии. Это предательство, Райнхарт, чертово предательство!
Голтайер перешел на крик и так стукнул кулаком по столу, что в шкафу задребезжала посуда. Райнхарт, прижимающий к себе осколки блюдца, опустил глаза, не в силах выдержать пристальный взгляд Голтайера.
— Итак, Райнхарт, кто это был? Кто из этой банды трусов и предателей, околачивающихся в твоем кафе? Ты их будто притягиваешь, а? Назови имя, чтобы мы успели, так сказать, ампутировать ногу и не допустить гангрены. Ну?
Райнхарт начал нервно вытирать стол, стараясь не смотреть на Голтайера. Он скользнул взглядом по Мими, глаза которой были полны ужаса от осознания наступающей беды. Она понимала, что это конец, агония раненого зверя.
— Вчера здесь было полно народу, все пели и кричали. Если ваши солдаты слышали его голос на улице, значит, он был там. Я весь вечер стоял за стойкой, ну, иногда уходил в кухню. Готовить ведь особо не из чего. Вы и сами знаете, герр Голтайер.
Попытка уйти от ответа явно провалилась.
— Ну ладно, Райнхарт. Я освежу тебе память. Начнем с того, что этот подонок — твой постоянный посетитель. Кроме того, в его фамилии имеется приставка «фон». Его кузен был дружен с предателем фон Штауфенбергом. Мне продолжать? Или ты напряжешь мозги и вспомнишь, что же он говорил здесь вчера вечером? Его имя, Райнхарт. Я жду. Говори! Шевели своими жирными губами!
Словно в замедленной киносъемке, Голтайер потянулся к правому боку, расстегнул кобуру и положил на стол свой начищенный до блеска «люгер»[23]. Не отводя взгляда, офицер отпил кофе и сказал:
— Сядь.
С осколками блюдца в руках, хватая ртом воздух, Райнхарт сел на стул, наблюдая за тем, как Голтайер медленно ставит чашку на блюдце, берет пистолет и приставляет к его виску.
— Ну, Райнхарт, как его зовут? Я жду.
По лицу хозяина кафе катился градом пот, он моргал и все время сглатывал слюну.
— Ну!
Взвод курка. Наступила гробовая тишина. Было слышно лишь дыхание смерти.
— Фон Шайлд… — последний слог утонул где-то в горле.
Медленно, даже театрально, как показалось Мими, Голтайер снял палец с курка.
Все молчали.
На виске Райнхарта остался красный след от дула пистолета. Хозяин кафе смотрел куда-то вглубь бара. За стойкой всхлипывала худощавая официантка.
— Ну конечно. Как же я мог забыть. — Голтайер сплюнул прямо на скатерть и прокрутил пистолет в руке. — Хорошо, что он не понадобился. Час назад твой приятель был застрелен именно из него.
4
Франция
Мельница, пригород Монтрёй, Северная Франция, май 1945 года
Вода стала сероватой, когда первые ручейки потекли в ведро, стоявшее под сушилкой. Мокрая рубашка слегка провисла, прежде чем женщина начала натягивать ее на сушильную доску, прижимая скрипящую рукоятку. Женщина тяжело дышала, и ее бледные щеки начали краснеть от физических усилий. Ее руки, огрубевшие от каждодневной работы, контрастировали с красивой кожей лица и прекрасными золотисто-каштановыми волосами. На улице светило яркое солнце, но сквозь грязное и зарешеченное паутиной окно пробивался лишь маленький лучик, освещавший голые каменные стены комнаты, в которой, кроме чугунного ручного насоса, сушилки и ведра, ничего больше не было. На сером фоне выделялся алый шарф на плечах женщины, в тишине слышался скрип рукоятки, плеск воды в ведре и частое дыхание.