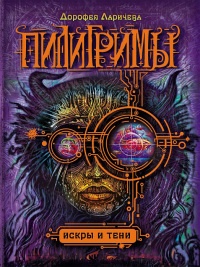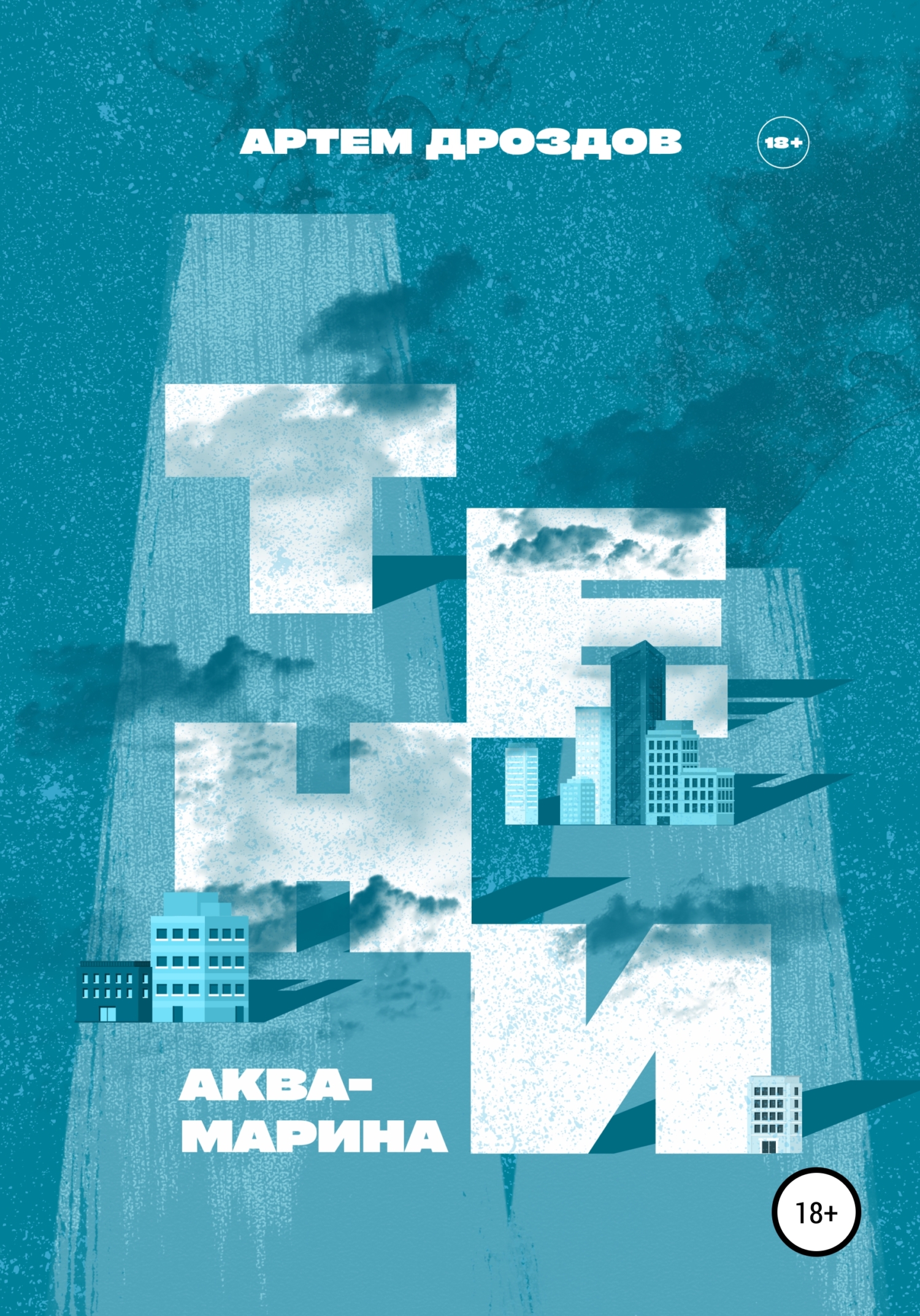в худшем отнимут и надают по шеям. Поди потом объясняй, откуда завелась столь крупная купюра.
Гринька моих забот не оценил. Назвал дураком, коли не понимаю свалившего счастья. И тут же потребовал выполнить свою часть уговора.
- Cдалась тебе эта хаза, - не выдержал я, – нет там ничего интересного. Обыкновенный бандитский притон.
- Для тебя может и обыкновенный, а я хочу одним глазком глянуть, как фартовые живут… Не мелкие шестерки, что по улицам ходят, а настоящие тузы.
- Ладно, пошли, - вздохнул я.
Но Гринька против ожидания остался стоять на месте.
- Ты чего?
- А сам чего? - на лице приятеля появилось выражение обиды. – За дурочка держишь или решил в легкую с темы соскочить?
- Да объясни ты толком, что не так?
- Сколько сейчас времени?
Я посмотрел на горящие огоньки окон, на рабочий люд, идущий сплошной волной со стороны железнодорожной станции.
- Начало девятого.
- А авторитетные на хазе когда появляются?
- Ближе к ночи.
- Во-от, - протянул Гринька, - значит после захода и пойдем.
- А мамка-то отпустит? – не удержался я от подначки.
Приятель мигом насупился.
- Твое дело прийти после двенадцати, а вопрос с матерью как-нибудь решу.
Прошлый раз, когда Гринька сбежал из дома, случился скандал. Отец выпорол провинившегося отпрыска сапожным ремнем, да так сильно, что бедолага пару дней спокойно сидеть не мог. Все стонал и охал, поправляя портки, из-под которых несло аптекарской мазью.
Интересно, что приключится на сей раз: отцовский ремень или Гринькина удача?
В положенный срок я явился под окна и принялся швыряться камешками. Через полминуты деревянная рама заскрипела и в темном проеме показался Гринька. Ох, до чего же неловок он был. Вроде этаж невысокий, и делов-то – повиснуть на карнизе, да спрыгнуть вниз. Но приятель даже здесь умудрился нашуметь. Зацепился полой пальто за ручку и едва не разбил стекло. Потом принялся хвататься за проржавевший от времени подоконник. Железяка дребезжала, словно по ней колотило градом, а Гринька все медлил.
И тут в проеме показалась копна рыжих волос.
- Куда собрался? - веселым голосом поинтересовалась она. - Немедленно возвращайся, иначе тятю позову.
Кажется, это была Олька… а может Катька. Для меня все они были на одно лицо: рыжие, конопатые, с неизменно шкодливым выражением. Готовые на любую пакость – нет, не из вредности, а из одного лишь им известного веселья.
Я это понимал, понимал и Гринька, отчаянно вцепившийся в подоконник. Короткие ноги приятеля болтались в воздухе, пытаясь нащупать твердую почву, до которой еще лететь и лететь, почитай, весь первый этаж.
- Я леденец куплю, - просипел он напряжения.
- И мне, и мне, - в открытом окне появилась вторая мордашка.
- А мне заколку, - возразила первая.
- И мне, и мне… Я тоже хочу заколку.
- Куплю, - просипел бедный Гринька.
- Обещаешь?
Гринька не успел ответить. Пальцы разжались, и он кулем рухнул вниз, так что даже у меня в сердце екнуло. А неугомонные сестрицы продолжали тарахтеть:
- И без заколки не возвращайся, иначе все матери расскажем… И без леденцов тоже.
Тень поднялась с раскисшей от бесконечных дождей почвы и захромала в мою сторону. Приятель выглядел не лучшим образом, весь перепачканный и поникший. При падении он умудрился впечататься лицом в грязь и теперь выглядел чумазым, как настоящая негра из Фавел.
- Может ну его? – предложил я.
Но приятель лишь покачал головой. Обтер рукавом грязь и упрямо заявил:
- Веди.
И я повел.
Многие считали время после заката самым опасным. Как будто днем убивали меньше… Нет, если шляться по отстойникам в поисках приключений, то можно и нарваться. Особенно нацепив наряд побогаче, демонстрировать всем желающим кошель с деньгой.
Мы с Гринькой по местным меркам не котировались. Считались обсосами – уличной шпаной, с которой и взять-то нечего окромя вшей. Чего нам опасаться, если только окосевших в конец пьянчуг, способных зашибить любого в хмельном угаре.
Днем вся трущобная грязь выставлялась наружу - без стеснения и прикрас. Не нужно было обладать острым зрением, чтобы разглядеть валяющийся под ногами мусор, покрытые слоем жира окна, потрескавшиеся стены домов. Угрюмые лица прохожих источали глухое равнодушие и усталость, а порою раздражение и злость. Но то днем… С заходом солнца картина мира преображалась. Ночной полог окутывал поселок, что хиджаб изрытое язвами лицо. Исчезала грязь, а следом за ней обыватели. На смену дневной суете приходила тишина, перемежаемая далеким собачим лаем.
Темнота в этом месте никогда не бывала абсолютной. Свет лился из окон сгрудившихся домов. Моргал и потрескивал в чудом уцелевших плафонах. Множество луж отражало звезды и серебристую плошку луны. А когда небо затягивало тучами, на выручку приходил город. Гигантский мегаполис излучал такое количество света, что полыхающие отсветы были видны на многие километры вокруг. Дед Пахом называл их еще зарницами.
Порою казалось, что до ушей доносился шум далеких улиц, проносящихся мимо машин и поющих рекламных стендов. И тогда я