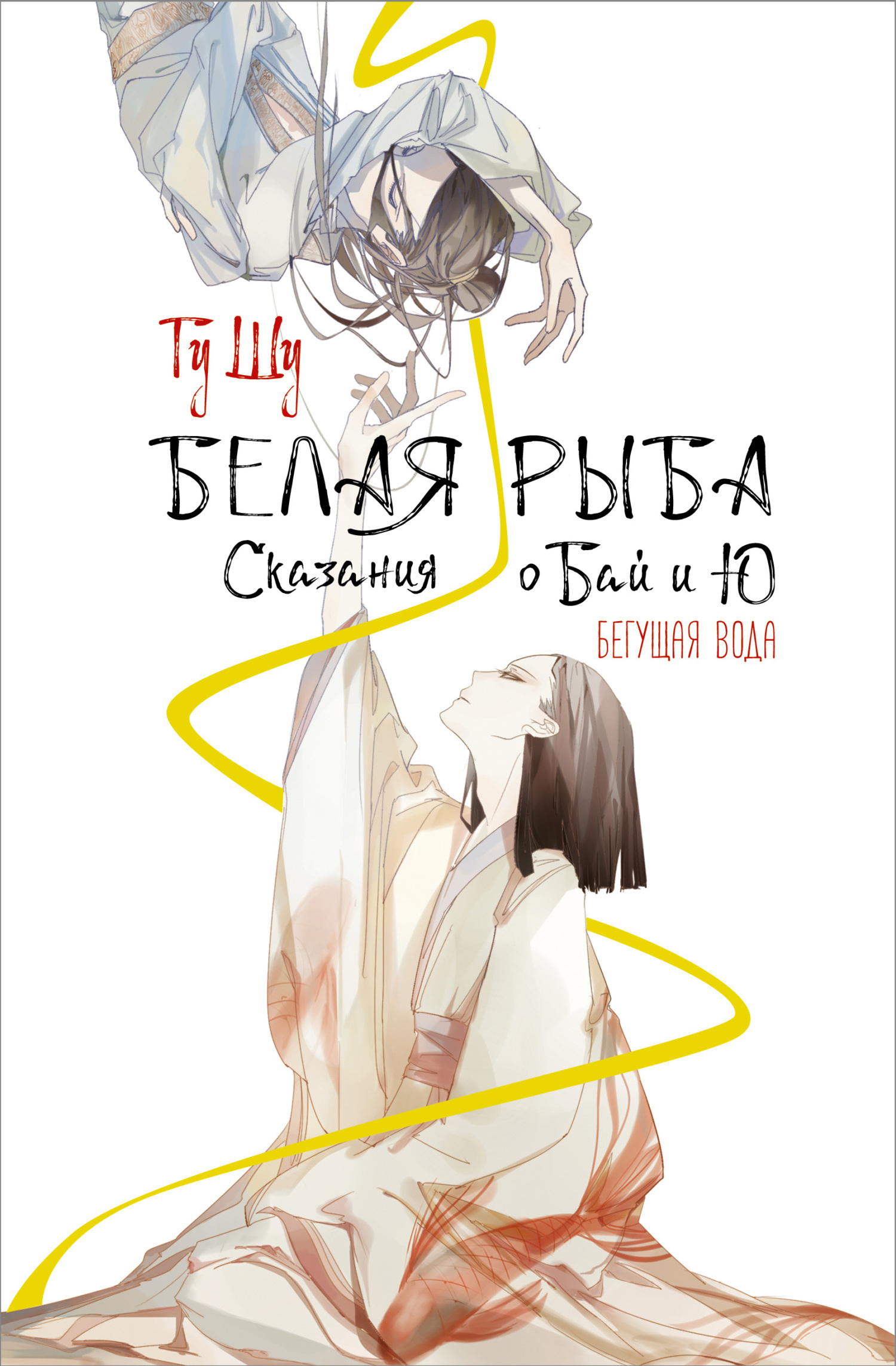да и те уж пораскатились.
Встал Завид на колени, рукой осторожно траву отвёл, землю смахнул. Видит — им руки связали за спиной, а верёвка хотя и истлела, да не вся. Он её где ножом поддел, где потянул, да и снял, в сторону отбросил.
— Вишь ты, что сделали, — тоже присев, покачал головою Дарко. — Головы им разбили, кости переломали. Видать, решили, что все беды из-за проклятого клада, вот и наказали их, значит. Может, думали и беды тем избыть. Ох, да есть ли кто страшнее людей?
Старый гончар не ответил, он в ту пору уж исчез, а они и не углядели, когда.
Схоронили они старика да сына в лесу, выбрав хорошее место под рябинкой на светлой полянке. На кладбище уж не стали нести, далеко, да и там от ырки глухой забор возвели, а калитку забыли. Да едва насыпали холмик, встали перед ними гончары, будто живые.
Отец сына за руки взял. Молчат, друг на друга глядят, каждый будто что сказать хочет, да так и не сказали. Отпустил отец сына, только натруженную ладонь вслед поднял, словно прощался. Тот на шаг отступил, и ещё на шаг — и нет его, будто и не было.
Дарко, Завид да Божко и дохнуть боятся. Обернулся к ним старик и говорит:
— Сколь годов мы покоя не ведали, а ныне свободны стали, за доброту я вам послужить хочу. Слыхал я, об чём вы толковали. И верно, схоронено здесь серебро да золото, да иная монета, да буски, да перстеньки — всё неправдой либо разбоем добытое. Мы класть позволяли, а забирать мой сынок не давал. Ныне он ушёл, а перед тем согласился вам всё отдать.
Трое переглянулись, молчат. Даже Божко теперь не спешит просить серебра да золота.
— Нам не надобен клад, — покачал головой Завид. — Вот что: на Купалу, ежели мы колдуна заборем да на наше чудо после того будет веселье, ты огни в поле зажги, да людям и раздай, кому что надобно. Послушай, кто о чём просит, тем и одари.
Согласился старик и пропал.
А на другой день в Перловку старый гончар пришёл, всё молчал да улыбался, да ребятишкам глиняные свистульки раздавал. Только трое и ведали, кто он таков, да молчали. Божко свой короб подале упрятал и сказал, без кладов проживёт.
Вот уж скоро и день Купалы, всего ничего ждать. Уж и луг покосили, и лозы у озера заплели, лавки поставили. На другом берегу корчма выросла — маловата, да время тёплое, и ежели кому в хлеву места не хватит, так и под чистым небом постелить можно. Во дворе мастера печи сложили. В узком месте, где ручей в озеро впадал, сладили мост, да таково хорошо — резной, деревянный, сам изогнулся легко. Впору и царю по такому ходить.
Дарко тут в Белополье за царём и отправился, зазвать их с царицею. Колдун-то небось не хотел при них вершить своё дело, вот пусть и попробует оправдаться. А ему отчего-то важно было непременно к этому дню Купалы успеть, вот и от Добряка требовал нож к этому сроку.
Василий в эти дни всё ходил смурной. Как-то завёл разговор: мол, мы людей обманом сзываем, хотим себе помочь, а если колдун всех загубит? Люди-то праздника ждут, веселья, кладов, костров да плясов, да накрытых столов. Небось придут с жёнами, сёстрами…
Завида и самого заедала совесть, да он Василию молчать велел. Если никто не придёт, так у них и вовсе надежды нет.
А Василий не смолчал. Не вытерпел, собрал народ, да всё и поведал: о проклятом царевиче да о злом колдуне, который в том повинен.
Он до всего уж дошёл умом, Василий. Если колдун притворился чёртом и отдал царице нож, так, верно, он сам и проклял царевича. И покуда богатыри искали Казимирову смерть, несчастная мать, сама не зная того, её берегла. Много боли колдун причинил и, уж верно, черпал в ней силу. А нынче ему надобно всё царство.
До всего он дошёл умом, богатырь Василий, только не понял, что лучше о том до поры смолчать. Вечером он собрал народ и всё выложил, а поутру в Перловке уже никого не осталось.
Шибко Завид осердился. Понял он теперь мужиков, которые добывали с ним птицу-жар, а он пожалел её да отпустил. Он и Василия понял, да с того не легче!
Он к Ярогневе, к няньке пошёл, отыскал её у избы и спросил:
— Что ж, всё идёт как надобно? Ты видала меня да богатыря, а что дале? Сгинем али живы останемся?
Та выпалывала гряды, стоя на коленях, и даже головы не повернула, только пожала плечами и равнодушно сказала:
— Да кто ж этакое ведает…
— Да что ж ты ничего не ведаешь? Много ль проку тогда от тебя! Ишь, с проклятьем не совладала, с колдуном не совладала, не поняла, для чего тот нож! Мне ещё солгала, за пером отправила, а ведь я мог попросить любой награды — может, птица могла и проклятье снять!
Ярогнева внимательно поглядела на него тёмными глазами и спросила:
— Так что ж ты, выбрал бы иную награду, ежели б мог? Для себя одного, не для других?
— Откуда бы мне знать? — оскалился он. — Выбрать-то мне не дали!
Тяжко Завиду. Мечется он раненым зверем. Этот день пройдёт, завтрашний пройдёт, а там и колдун прибудет, а они остались с тем, с чего начали. Ничего не может выдумать, так день и прошёл.
Ввечеру Дарко приехал, запылённый, усталый, мало не с ног валится.
— Зазвал я царя с царицей, — доложил. — Я ведь в царском терему недолго работал, а как запропал, так и решили, что нечисть меня утащила. Нынче пришёл — стража узнала, пустила, а я и говорю, значит: мне к царю надобно, важные вести. Добился, увидал царя. Тот было начал расспрашивать, куда я девался, да я ему перстень тот подаю и говорю: «Тихомир тебе кланяется, этот перстень шлёт да велит у жены спросить, где она его потеряла».
Выпалил на одном дыхании, отдышался и докончил:
— Царь, ясно, давай расспрашивать: откуда да откуда у меня перстень царицы. А я ему: хочешь вызнать правду, к Тихомиру езжай в день Купалы, а больше и сам не ведаю. Думал, меня в темницу бросят, ан нет — согласился царь, приедет. С женою, с Казимиром, да дружины возьмёт три десятка… Ну, у нас-то людей поболе будет…
— Да уж не будет, — сказал ему Завид. — Наш богатырь Василий им правду открыл.