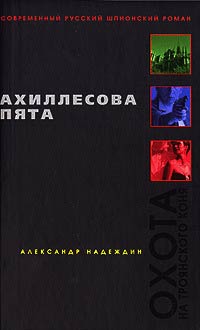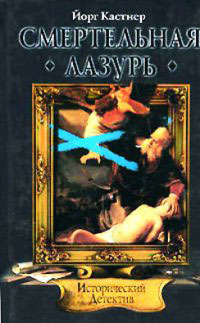— Нет, он спрятан в Соборе.
— Как вы можете говорить с такой уверенностью?
— Потому что я чувствую, — она положила руки на свою грудь. — Здесь внутри.
— Сила солнечного камня?
— Да, Арман. Разве Вы тоже не чувствуете?
— Как я-то могу?
— Как сын Вийона, вы особым образом связаны с камнем солнца.
— Мне это уже говорили.
— Но вы же излучаете его. Я как раз чувствую, и лишь у вас я заметила это.
— Как я могу что-то излучать, о чем я едва знаю?
— Вы должны быть очень близки к солнечному камню.
— Тогда, пожалуй, сам не зная того.
— Вам ничего не бросилось в глаза во время вашего поиска смарагда?
— Нет.
— Но вы же должны были максимально приблизиться к камню! Иначе ваше сияние нельзя объяснить, — она близко подошла ко мне и положила руки на голову, словно благословляла меня. Медленно она провела по щекам, плечам и груди. — Да, вы носите силу солнца в себе!
Ее последние слова я слушал только вполуха, потому что другой шорох привлек мое внимание: шаркающие шаги, сопровождаемые запыхавшимся дыханием.
И цыганка услышала его, на миг замерла и прошептала потом мне на ухо:
— Он идет, он, кажется, очень возбужден.
Я знал, о ком она говорила. Шаркающая походка выдала приближающегося.
— Я не знаю, смогу ли я задобрить его в таком состоянии, — продолжила Эсмеральда. — Быстро, на пол!
Она заползла под скамейку на хорах в спасительной тени и потянула меня за собой. Плотно друг к другу мы лежали под защитой фигур, которые высек неизвестный художник в виде каменной ленты ограждений. Лента представляла жизнь Иисуса, и мы спрятались под сценой его рождения. Мария, в одежде, с лицом и локонами уважаемой парижской горожанки, лежала на удобном ложе и оперлась правой щекой на согнутую руку. Левая рука лежала на животе, который прежде скрывал младенца Христа. Он лежал позади Марии в яслях, в углублении, как подобает Спасителю. То, что осел и буйволы стояли еще выше, чем сын Бога, было ловкостью художника, чей замысел я напрасно искал. У изголовья кровати Марии стояли пастухи, маленькие как дети, у ног — опирающийся на посох Иосиф.
Хотя Спаситель, Его Мать и Святой Иосиф была нашими стражами, при приближении шаркающих шагов мои волосы на затылке поднялись дыбом. Было ли это умно — вместе с цыганкой спрятаться в этом укрытии? Я видел, как Квазимодо вышвырнул из ее кельи своего приемного отца и хозяина. Что же он сделает со мной?
Мне было вполне ясно, что звонарь подстегивается не одним инстинктом охранять пленницу. И даже если при внешней противоположности между Эсмеральдой и им эта мысль казалась абсурдной, я думал, что Квазимодо двигало одно из самых опасных побуждений: ревность.
Я хотел предложить Эсмеральде, чтобы мы показались Квазимодо. Я считал это лучшим выходом, чем прятаться здесь, как провинившимся детям. К тому же, мы ни в чем не были виноваты. Рука цыганки закрыла мои губы, едва я успел произнести хоть звук. Другой рукой она мягко гладила меня по волосам, как мать своего ребенка. И точно — этот жест успокоил меня. Я почти наслаждался, лежа в объятиях красавицы, окруженный ее теплом и ароматом. Если бы не было Квазимодо…
Шаги и громкие вздохи были совсем близко. Его бесформенная масса тела тянулась в свете свечи, которая горела у ног Святого Мартина. Он остановился и огляделся, похоже, обдумывая, где стоит продолжить поиск желанной. Я молился Иисусу, Марии и Иосифу, чтобы он не захотел войти в хоровую галерею.
Возможно, я слишком много общался с еретиками, так что моя молитва не была услышана Как детский мяч, который прыгает от одной стороны улицы к другой, горбун проскочил по хоровой галерее, глядел по всем сторонам и издавал неоднократно тихое, глухое:
— Эсмеральда.
Я прижался еще сильнее к лежавшей около меня, словно охотнее всего слился бы с ней. Если бы звонарь не был глух, он бы незамедлительно услышал наше испуганное дыхание.
К счастью Квазимодо повернулся у венка часовни в другую сторону и заглядывал в каждую отдельную часовню, пока окончательно не исчез в алтарном помещении. Мы лежали на полу, тесно прижавшись друг к другу не осмеливались пошевелиться. Квазимодо исчез из поля зрения, но мы слышали его громыхание на южной стороне хоров. Когда он и там ничего не нашел, я испугался, что он теперь вернется на хоры. Но шаги удалились — похоже, он прекратил свои поиски. Последнее, что я услышал от него, было жалобное всхлипывание.
До сих пор ни цыганка, ни я не двигались и так тихо дышали, как это было возможно. Когда напряжение оставило нас, мы в унисон издали громкий вздох, словно хотели подражать Квазимодо. Но мы не поднялись, не освободили тела друг от друга. Вместе мы пережили опасность, вместе и хотели наслаждаться покоем, который перешел в желание.
Можно подумать, одеяние послушницы отбило у меня всякую страсть, но наоборот — это был тот самый случай. С головы до пят закутанная, цыганка возбуждала во мне необузданное желание обнажить ее тело, увидеть его, что она предлагала Фебу в притоне сводни. Я поднял подол юбки наверх и застыл при виде кривых, изуродованных, гноящихся ног.
— Испанские сапоги! — сказала она. — После этого я призналась во всем, что они хотели услышать. Что же, это потушило твой огонь?
— Нет, — ответил я, и это было правдой. — Я только спрашиваю себя, как ты сможешь теперь танцевать?
— Время танцев прошло.
Она снова привлекла меня к себе, ласкала меня и распустила шнуры на кафтане и штанах. Одетый только в рубаху, я опустился перед ней на колени и поднял белую юбку над ее коленями и дальше — выше над бедрами. Под одеянием она была нагой. Ее тело с черным пушком требовательно тянулось ко мне.
Я заколебался, подумав о Колетте. Но что мне ждать от нее? Ничего, если я буду доверять ее словам. Я не был священником, который поклялся в целибате. И я не видел никакой причины отказаться от удовольствия только потому, что мне отказано в счастье.
Чтобы не увиливать — я предался соблазну и встал на колени между стройных ног. Руки Эсмеральды схватили знак моего возбуждения и гладили его, нежно и сильно одновременно, приводя мое тело в движение, пока первые капли не упали на ее обнаженную кожу.
Я больше не сдерживался, хотел потушить свой огонь и опустился на цыганку. Моя плоть проникла в нее. С каждым толчком я пробивался все глубже. Скромный чепец вокруг ее лица был для меня насмешкой вместо препятствия. Эта послушница никогда не должна забыть свое посвящение.
Если бы Квазимодо теперь вернулся, ему бы потребовалась вся его сила, чтобы разлучить нас. Ноги цыганки обхватили меня, ее руки на моем заду прижимали меня к ее влагалищу, почти больно впившись в мою плоть.
С каждым движением во мне росло стремление завершить наше единение, я внедрился в ее разгоряченное, мягкое влагалище. Быстрее, жестче, глубже — пока я не услышал ее сладострастный крик и больше не сдерживался. Пока я орошал ее чащу, я посмотрел на заспанное лицо каменной мадонны и пожалел оставшуюся навсегда девой за то, что ее-то при непорочном зачатии миновало.