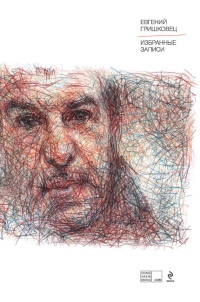Хосе в полусне миновал коридор. Его разбудил уличный шум. Он заглянул в кондитерскую на углу. От шоколадного глобуса было отъедено полмира.
Он позвонил Анн фон Трот: «Приходи завтра. Да, я вернулся. Очень рад буду тебя видеть. Ложусь спать, голова раскалывается».
Перед сном он слушал кассету Мендеса. Перемещал тепло из руки в спину, оно растекалось по всему телу. Голос врача затих, зазвучала запись с последнего сеанса. До него еще доходили убаюкивающие незнакомые звуки.
— Некоторые разговаривают во сне, некоторые — сами с собой. Кто может быть уверен, что проснулся? — подумалось ему в полусне.
Он услышал: «Второе прочтение сна». Кто-то говорил его голосом: «Я — шум крови. Биение сердца. Когда я пылаю — я бог солнца, когда дует ветер — я пернатый змей. Мы стали кровными братьями, когда ты обдирал себе пальцы о мои камни. Я влил в тебя холодную, каменную кровь. Ты познал тайну. Сны, оплетая голову, размягчают мысли и сокрушают кости. Индейцы бежали из каменных городов в страхе перед сном. Покидали захваченную врагом крепость.
Они защищались с помощью горного хрусталя. Не знали ничего тверже. Они вырезали из него черепа для жертвоприношений. Сны хрустальных черепов были прозрачны, омывали их, как вода.
Головы людей омывают сны. Окуривают дымом воспоминаний и предчувствий. Индейцы знали, что грядет сонная волна, затопляющая мысли. Выше городских стен. Заливающая безумием. Когда волна приближалась, они видели ее во сне: несущую густой дым — тяжелый сон без снов, от которого нет пробуждения. Каждую ночь они ложились на новом месте, нетронутом снами. Если однажды утром предметы теряли обычный цвет и вес, это значило, что приближается девятый вал. Вещи становились сонными, непригодными наяву.
В городе оставался жрец. Он засыпал на жертвеннике. Давал пожрать себя кошмарам, чтобы спасти бежавших горожан. Ему снились страдание и безумие. Он досматривал сон до конца. Люди вновь были чисты. Они возводили новый город. Сменялось два-три поколения, и сны крушили каменные стены, мутнел хрусталь жертвенных черепов. Жрец засыпал».
Хосе не проснулся. Он умирал от снов.
СТРАСТНИК
Я расстилаю простыню. Натягиваю ее на кровати. Она станет полотном картины «Женщина и мужчина».
Ты протягиваешь ко мне руки. Кладешь на себя. Ты смеешься тому, что мужчина — прекраснейший из людей. Но ведь я права. Смотри, твои ноги сильны. Узкие бедра, живот — система мускулов. Рисунок чистейший, без намека на нескладную, мешковатую беременность. Ты — не кладовка с салом, напиханным в валики зада и грудей. К тебе не присосется изнутри голодный эмбрион. Взгляни:
Твоя самая маленькая мышца — вот эта, на запястье, соединена мускулами с предплечьем. Их движения поддерживают сухожилия спины. Они не исчезают где-то в округлостях, не растворяются в жире. Женщина, взрослея, становится пышной, мужчина — обретает силу.
В первый раз увидев мои обнаженные груди, ты сказал: «Они беспомощны, как разведенные руки». Ты целуешь их, и они святы. Розовеет ареола сосков. Наша Святая Сисанна, заступница с двумя реликвиями. Им нужно поклоняться: лизать. Терзать их, кусая, сжимая, ведь нет святости без мученичества.
Секс пахнет изо рта и слюнявится между ног, когда ты говоришь со мной нежнее поцелуя. Ты вкладываешь язык между моими губами. Мы разгрызаем: лю-у-блю. И падают декорации слов. В стоне голос обнажен. В самой сердцевине крика. Желание не выразить заученными, дрессированными словами.
Остается ритм, пульс крови. Долг ритма, призывающего наслаждение. Я прокрадываюсь под тебя. Слизываю капли пота. У них прозрачный вкус. Из них струится теплота, соленая слезливость, липкость вожделения. Подожди — я отталкиваю тебя ногой. Ты берешь ее в рот. Лаская, разделяешь пальцы. Мокрую, вытираешь о щеку.
Ты медленно склоняешься надо мной. Волосы закрывают тебе лицо. Твоя спина соткана из мускулов. Согнута в поклоне. В ней чувствуются покорность и угроза силы. Вырубленный из камня античный жрец, приносящий в жертву семя: «Ты не будешь знать мужчин, кроме меня», — будто требуешь ты, как всякий влюбленный бог.
Я вжимаюсь в твое плечо. У тебя родинка. Коричневая выступающая пуговица, застегивающая блестящую кожу. Я целую ямку на шее. Ты откидываешь голову, отдаваясь ласкам. Слишком много, слишком сильно. Ты снова хочешь укрыться во мне. Мы садимся, обнявшись ногами. Укусы поцелуев слишком болезненны. Мы лижем друг другу губы. Рывком ты проникаешь в мою мягкость. Придерживаешь за бедра. Поднимаешь, властно прижимаешь к себе. Притягиваешь, отталкиваешь. Я — твой напряженный член с содранной кожей. Ты выжимаешь из нас наслаждение. Мы дрожим перед… Я вырываюсь и прячу голову под подушку. Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Еще нет. Ты снял с меня обычное тело. Из него сочится влага. Под ним есть другое, любовное. С горячей кожи испаряются духи. Ты ложишься рядом, опираясь на локоть. Вдыхаешь возбуждающий запах. Они никогда не пахнут одинаково. Свет и ласки усиливают их аромат. Они дозревают на теплой коже.
Вместо слов ты вкладываешь мне в ухо язык. Обещаешь медленное свершение. Лижешь кончиком в самой глубине пропасти. Гладишь ягодицы. Я люблю получать шлепок, словно плохая, ленивая девчонка. Уж конечно, я не тороплюсь.
Ты притягиваешь меня за плечо, чтобы потереть шерсть. Звериную заплатку между ног. Рыжие змейки скользких волосков ведут палец в яму. Я широко развожу ноги. Гладкий палец превращается в шершавый язык. Моя сладкая мякоть стекает с твоих губ.
Ты придерживаешь мне руки. Не знаю, отталкиваю я тебя или удерживаю ногтями за плечи. Ты проскальзываешь в меня. Колышешься. Мелкие волны удовольствия заливают рот. Я отчаянно ловлю воздух, втягиваю в себя дыхание, тебя. Ты подталкиваешь к наслаждению. Все сильнее. Через мое тело, через разверстую наготу. Ты находишь новую ласку, вот там. В самой глубине. Мы теряемся, выныриваем, мы не можем сильнее вонзиться друг в друга. Разодрать. Я внутри тебя, в пульсирующем стоне. Танцую визг. Пальцы бессильно соскальзывают со вспотевших плеч. Мы давим бедрами последний кусочек сахара, дурманом растворяющийся в наших телах.
Я открываю глаза. Волокна простыни. Саван с отпечатком мокрых тел. Ты прижимаешь меня к себе тяжелой рукой. Целуешь, сонный. Ты еще во мне. Сейчас ты выпадешь. Я рожу тебя. Вытекают молочные воды, и ты мягко выныриваешь на мое усталое бедро. Я впадаю в сон. Король и королева со средневековой гравюры. Они заняты любовью. Сплетены воедино. Это мы. Мы коронованы оргазмом в этом царстве в нас, над нами. В царстве наслаждения, властвующем над миром без любви.
СТЕНА
В греческой драме никто не путешествовал. Единство места и действия удерживало героев в вольере сцены. Хор комментировал судьбу прихлопнутых фатумом героев. Драма разыгрывалась здесь и сейчас. Если грек был обречен на путешествие, это занимало у него целую эпопею.
Современный человек сохранил чувство драматизма, однако единство места и действия поместил не на сцене, а в собственной душе, нарушив этим чистоту жанра. Человеческая жизнь стала драматической эпопеей, человек — зрителем и актером одновременно. Героем романов, садящимся в поезд, чтобы по дороге из города А в город Б свершилась его судьба. Порвав с единством места и времени действия, мы путешествуем между разделяющими пространство пунктами. Из-за нехватки веры в провидение время превратилось в преследующий нас рок. Мы не умеем терпеливо ждать его свершения. Мы в отчаянии давим пространство, топчем его, мстя за нарушение безопасного единства. От путешествия мы ожидаем сюжета, объясняющего смысл дороги. Поезда в романах XIX века развозят во всех направлениях героев драм.