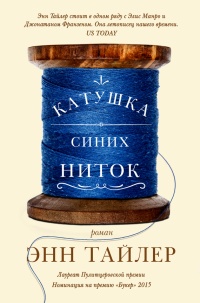Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 55
Налет на «стекляшку», разгон мирных курортников и приятное выпивание под звездами у ручья – все это не имело ни малейшей связи с ритуалом посвящения нового человека в члены туберкулезного братства или с какой либо традицией вообще. Ни малейшей! Потому что ни традиции, ни ритуала вступления в чехи не существовало в природе. Едва ли кто-нибудь, человек разумный, взялся бы утверждать и настаивать, что вот, мол, сегодня ты здоров, как лось, живешь легко, а завтра тебя сшибет посреди дороги той самой палочкой-разлучалочкой – и это совершенно ничего не значит, это мимолетный факт биографии. Мимолетный или не мимолетный, но пострадавший запомнит этот день на всю оставшуюся жизнь. Все факты мимолетные, кроме двух основных: рождения и смерти. Почему же тогда так уверенно справляют люди свадьбу, а чаще две или даже три за жизнь, да к тому же иногда отмечают и счастливые разводы, почему пьют и гуляют, провожая сыновей в армию, а потом, если повезет, встречая их оттуда? Почему гуляют и пьют, оканчивая школу, институт, защищая кандидатскую и докторскую, если получится? Может, потому, что за всеми этими фактами биографии сидит на лавочке, положив ногу на ногу, надежда с медовыми глазами, а новенького чахоточного кто-кто, а только не надежда выводит на его дорожку? Да, не она: отчаяние тащит его на поганой веревке. Но и у отчаяния оборотная, как у медали, сторона – все та же надежда, и не известно еще, какая из сторон раньше появилась на белом свете.
Так заведено: пить и гулять, определив повод, смеяться и плакать. И от счастия, бывает, плачут в три ручья, а беде дерзко смеются в лицо. Или наоборот. И все перемешано. Только вот почему же за тысячелетия не придумали, как проводить ни в чем не повинного чахоточника до границы этого мира, как встретить его по ту сторону санаторного забора с чугунными воротами! Разве такое неожиданное пересечение границы – не повод?
– Хороший повод! – услышал Влад голос Семена Быковского. – Вы здесь, и мы рады вам. По логике вещей мы должны бить себя кулаками в грудь и царапать лицо: бедный мир, в мире стало чехом больше. Но мы не царапаемся и не бьемся: миру плевать на нас, а нам – на мир. Мы живем своей жизнью. Мы – племя сорвавшихся с цепи людей. Добро пожаловать к нашему костерку! Здесь, поверьте, не так плохо, как кажется. Вот и Валечка так думает.
– Ну да, – сказала Валя. – У нас тут хорошо. – И, наполовину опустив верхние веки на синие свои кружочки, поглядела на Влада Гордина без всякого как бы интереса. Как бы вообще поглядела мечтательно мимо него, в темный кавказский ручей, населенный рыбой форелью. Влад такие взгляды ловил безошибочно и знал, что за ними следует. А кто не знает? Но вот ведь что удивительно: совершенно одинаково поглядывают синеглазые девушки на том свете и на этом- нет никакой разницы. Выходит дело, разделительный занавес не опустился до самого пола, осталась щель, и есть, видимо, общие черты по обе стороны проклятой занавески.
Со стаканом в руке Влад Гордин доверительно наклонился к Вале:
– А почему вы бутылочку вашу не показали? Там, в «стекляшке»?
– Плёвку, – легко уточнила Валя. – В тумбочке забыла. В палате.
– Так вы ее не обязательно с собой, что ли, носите? – вкрадчиво наседал Влад.
– Ну да, – кивнула Валя. – Только вот когда идем куда-нибудь, как сейчас. Тогда беру.
– Как так? – не вполне понял Влад Гордин.
– Так у меня ж закрытая форма, – с улыбкой просветителя объяснила Валя Чижова. – Мне плёвка вообще не полагается.
– А у Эммы? – шепнул Влад, не уверенный, можно ли спрашивать.
– Закрылась, – сказала Валя. – Была открытая, а потом закрылась. У нас у всех здесь закрытые, но, конечно, могут открыться.
Значит, вся эта дикая лажа в «стекляшке» – спектакль, цирк, без облегчения дошло до Влада Гордина. Ну и ну.
– Я, между прочим, – придвигаясь чуть-чуть поближе, продолжала Валя, – только здесь такая веселая. А там… – Она округло повела подбородком, получилось – за горами, за ночью. – Я обыкновенная медсестра, правда, в легочном отделении. Среди своих, так сказать. Третью градскую больницу знаете в Москве? Вот там… Так что со всеми вопросами – ласкаво просимо.
– Так вы украинка? – спросил Влад. Ему вдруг почему-то стало интересно, кто она такая, эта Валя.
– Мать только украинка. А отец – тамбовский волк. – Валя улыбнулась. – Дружба народов. Бывает иногда.
– А я вот не такой веселый, – пожаловался Влад и пожал плечами. – Чего-то не получается.
– Ну-у… – осудила Валя. – Вот это уже не годится.
– Спасенье утопающих – дело рук известно кого? – усмехнулся Влад. – Это утешает. – Он с отвращением поймал себя на том, что хочет, единым духом и не откладывая, рассказать и случайной Вале про военкомат, про ручки на дверях диспансера, про туберкулому в левом легком, наверху, поймал и остановил. Скольким людям он уже готов был рассказать все как на духу – регистраторше, Семену, даже профсоюзному негру, – все, что день назад представлялось ему страшной и отчасти позорной тайной. Как видно, на вытоптанном пятачке, очерченном санаторным забором, действуют иные правила, дуют иные ветры – скрытое в душе без задержки выдувает наружу, на всеобщее благожелательное обозрение.
– Здесь каждый утешается как может и как хочет, – сделавшись вдруг серьезной, сказала Валя. – Каждый из нас. А кто не утешается, тот попадает во Второй, в больницу.
– В один конец… – пробормотал Влад Гордин.
Валя расслышала.
– Первый день всегда так! – заглядывая в глаза Влада своими синими шариками, чуть слышно проговорила Валя Чижова. – Вы не расстраивайтесь! Завтра все пройдет.
– Утешусь? – горько спросил Влад.
Валя отвела глаза, не спеша отвернулась.
– Тогда коньяка! – сказал Влад Гордин, как будто предлагал полцарства за коня. – Чего это мы ничего не пьем? – И порожний стакан протянул.
– Мы пьем, – поправил Семен Быковский. – Просто вы не обратили внимания.
Семен Быковский, художник, вот уже полтора десятка лет считал, что смерть является наивысшим проявлением жизни, ее венцом и катарсисом. А до этого, до болезни, он вообще ничего не считал, потому что воевал с немцами, был молод и здоров. С дырками в легких он стал задумываться над смыслом жизни.
Не то чтобы болезнь рассекла его жизнь на две части: «до» и «после». Шов был не виден, разве что прощупывался, но «до» для Семена перестало существовать, как будто переместилось в иное измерение. Смерть, которая и в войну была для него не более чем страшным обрезком металла, бессмысленно свистевшим над головой, стала теперь реальна и близка чуть не по-свойски. Так, наверно, бывает с людьми после полного века, после семидесяти, когда каждый Божий день для одолевшего перевал и спускающегося уже с горы – чистый подарок, возможно, и случайный. Но Семену до перевала было тогда далеко, ему едва стукнуло тридцать пять.
В несытые послевоенные годы смерть не посвистывала в воздухе, она неотвязно ползла за Семеном по пятам, из стационара в стационар. Тощие больничные харчи и нехватка лекарств хоть и не давали умереть, но и на поправку шанса не оставляли. Семен выжил вопреки всем прогнозам – и это, наверно, было самое главное. Последний больничный срок он пролежал под Уфой, где его ради борьбы с заразой поили кобыльим молоком, как древнего скифа. Руки его не были отягощены имуществом: в солдатском вещмешке вольно размещались с полдюжины книжек, пара белья, коробка зубного порошка, четыре рисовальных альбома и пачечка писем от старшей сестры Майки, одиноко проживавшей в Тобольске.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 55