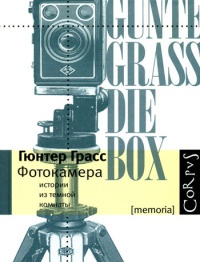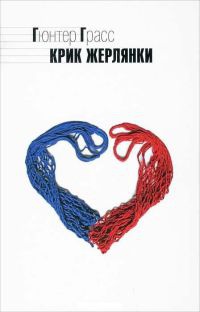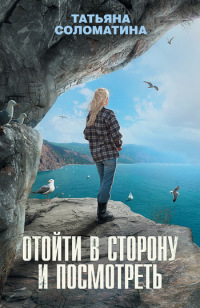Моя мать, закончив работу в лавке, не только исполняла на пианино музыкальные пьески, похожие на медленную капель, она была еще и любительницей чтения, состояла в книжном клубе, уж не помню каком. Но однажды она вышла из этого клуба, распространявшего книги по подписке, во всяком случае, вскоре после начала войны к нам перестали поступать новые книги, ранее пополнявшие нашу библиотеку.
В шкафу стояли «Бесы» Достоевского рядом с «Хроникой Воробьиной улицы» Вильгельма Рабе, шиллеровские стихи рядом с «Сагой о Йёсте Берлинге» Сельмы Лагерлёф. Какой-то роман Германа Зудермана соседствовал корешок к корешку с гамсуновским «Голодом», «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера с романом другого Келлера «Отдых от самого себя». А роман Фаллады «Что же дальше, маленький человек?» занимал место где-то между «Голодным пастором» Рабе и «Всадником на белом коне» Теодора Шторма. Рядом с «Битвой за Рим» Дана стоял и иллюстрированный фолиант под названием «Распутин и женщины», к которому я для контраста добавил «Избирательное сродство» Гёте, снабдив впоследствии этими двумя сочинениями моего персонажа, помешанного на книгах по совсем иным причинам; чтобы научиться грамоте, он сумел превратить гремучую смесь из обоих авторов в свою азбуку и первую хрестоматию.
Все это и многое другое утоляло мой читательский голод. Стояли ли за шторками книжного шкафа «Хижина дяди Тома» или «Портрет Дориана Грея»? Были ли там книги Диккенса и Марка Твена?
Уверен, что мама, у которой из-за растущих трудностей с ведением дел в лавке колониальных товаров оставалось все меньше времени для чтения, не знала, как и ее сын, что один из романов из книжного шкафа принадлежал к числу запрещенных книг: «Студентка химии Хелена Валльфюр» писательницы Викки Баум. Вокруг этого романа еще в тридцатые годы разразился скандал, поскольку речь там шла о целеустремленной, но бедной студентке, о любовной драме, разыгравшейся в идиллическом университетском городке, а также о том, что беременной студентке приходится делать выбор и речь заходит о подпольном аборте, который согласно параграфу 218 являлся тогда прямым уголовным преступлением.
Видимо, мама не удосужилась прочитать роман и проследить судьбу отважной студентки, поэтому, когда ее четырнадцатилетний сын, сидя за столом и не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, сочувствовал бедам молодой женщины, а потом ее материнским радостям, маму это ничуть не смущало, и она спокойно позволяла мне «витать в облаках».
Позднее я прочитал и другие книги Викки Баум, например, ее экранизированный роман «Люди в отеле». А когда в начале восьмидесятых годов я работал над своей повестью о путешествиях «Головорожденные, или Немцы вымирают», где предугадал такие явления, как нежелание иметь детей у современных супружеских пар, предпочитающих личную самореализацию, широко культивируемый ныне эгоцентризм, старение населения ФРГ и обусловленный этим старением затяжной кризис пенсионной системы, унылая повседневность бездетных супругов, — для создания мелодраматического фона мне весьма помогла книга Викки Баум «Любовь и смерть на Бали». Впрочем, с таким самозабвением, как в юные годы, я уже никогда не поддавался чарам писательского таланта Викки Баум, чьи книги совершенно напрасно относят к разряду исключительно развлекательной беллетристики.
Когда наступало время накрывать стол к ужину, отец говорил: «Чтением сыт не будешь!»
Маме нравилось, что я «читал взахлеб». Она была деловой женщиной, которую любили клиенты и торговые агенты, но при этом ей была свойственна грустная мечтательность, сочетавшаяся, однако, с веселым нравом и даже некоторым озорством; мама с удовольствием устраивала маленькие розыгрыши, которые называла «каверзами», — например, ей нравилось продемонстрировать какой-либо гостье, скажем, приятельнице из тех времен, когда они были ученицами в сети магазинов «Кайзерс Каффее», насколько страницы печатных книг могут поглотить ее сына, — для этого вместо намазанного джемом хлеба, от которого я, увлекшись чтением, откусывал краешек за краешком, она подсовывала мне мыло «Палмолив».
Скрестив руки на груди, она с улыбкой — поскольку была уверена в успехе — ожидала результата произведенной подмены. Ее забавляла ситуация, когда сын, надкусив мыло, успевал прочесть три четверти страницы, прежде чем сообразить, что случилось, на потеху всем присутствующим.
С этих пор мне известен вкус мыла под названием «Палмолив».
Мальчику с выпяченной нижней губой приходилось, видимо, не раз отведать мыла, ибо память сохранила различные вариации подобного события — подменялся то бутерброд с колбасой, то с сыром, то пирог с изюмом. Что же касается выпяченной губы, то с ее помощью было весьма удобно сдувать нависавшую на глаза прядь волос. А такое происходило при чтении постоянно. Иногда мама укрепляла мои слишком мягкие волосы заколкой, которую вынимала из своей тщательно уложенной прически. Я не возражал.
Я был для нее всем на свете. Как бы я ее ни огорчал тем, что меня оставляли на второй год или из-за моей строптивости переводили из одной школы в другую, она неизменно продолжала гордиться своим постоянно что-то читающим или рисующим сыночком, которого только окриком можно было пробудить от устремленных в прошлое мечтаний, после чего он, к обоюдному удовольствию, охотно садился к маме на колени.
Мои безудержные фантазии, всегда начинавшиеся словами: «Когда я разбогатею и прославлюсь, то мы вместе с тобой…» — ласкали ей слух. Кажется, ничто так не радовало ее, как мои щедрые обещания: «Совершим путешествие из Рима в Неаполь». Она, всей душой тянувшаяся к прекрасному, в том числе к печально-прекрасному, любившая принарядиться и пойти в городской театр, часто одна и иногда в сопровождении мужа, называла меня своим «маленьким Пером Гюнтом», когда я снова начинал фантазировать о кругосветных странствиях и обещать ей чуть ли не луну с небес. Эта безмерная и безрассудная любовь, доставшаяся завиральному маменькиному сыночку, объяснялась, вероятно, тем, что мама сама была многим обделена в юные годы.
Если отцовская родня жила буквально за углом, на Эльзенштрассе, где с утра до ночи визжала циркулярная пила дедовской столярной мастерской, и из-за этой близости я едва ли мог уклониться от нескончаемых родственных распрей, которые лишь изредка прерывались краткими перемириями, — так что непрестанно раздавалось: «Слова с ними больше не скажу!», «На порог не пущу!» — то маминых родителей, трех ее братьев и единственную сестру я знал лишь по маминым рассказам и немногочисленным семейным реликвиям. Если не считать сестры по имени Элизабет, которую все звали Бетти, вышедшей замуж и «уехавшей в Рейх», мама осталась совсем одна.
Конечно, были у нее еще и кашубские родственники, но те жили в деревне, настоящими немцами не считались и вообще не шли в счет с тех пор, как появились причины умалчивать даже само их наличие. Ее родители, которые, будучи городскими кашубами, сумели вписаться в мещанскую среду, умерли рано: отец был убит в начале Первой мировой войны под Танненбергом. После того как двое ее сыновей погибли во Франции, а последний сын, тоже солдат, умер от гриппа, скончалась и мать, не хотевшая больше жить.
Артуру было всего двадцать три. Пауль погиб в двадцать один год. Грипп унес Альфонса, когда ему исполнилось девятнадцать. Но мама, урожденная Хелена Кнопф, всегда говорила о братьях так, будто они еще живы.