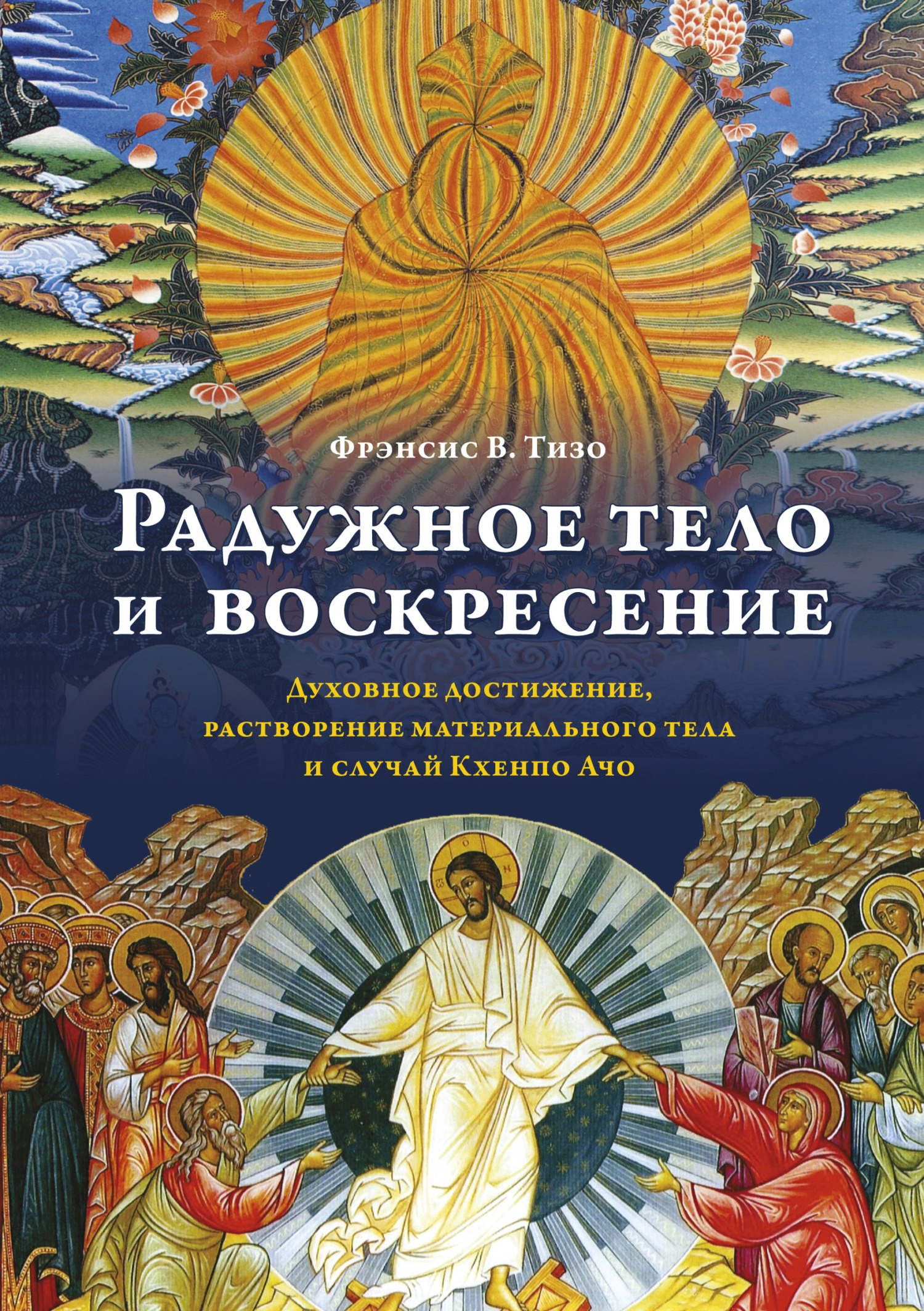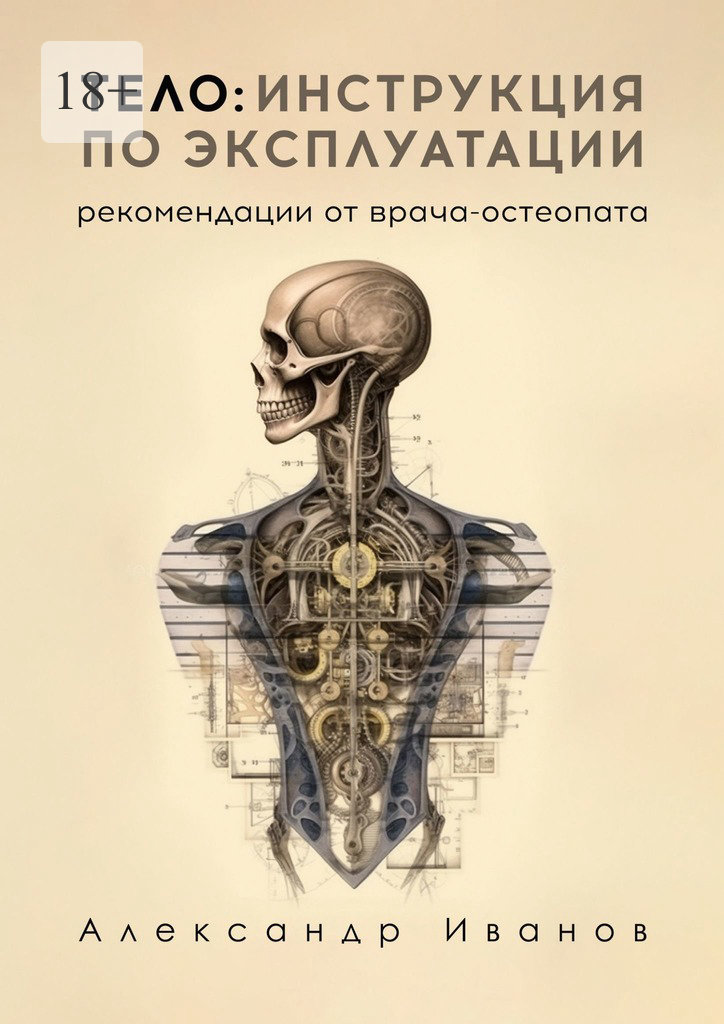удивясь, что на это нет общего устава»15. Законотворческая деятельность, которая в значительной степени носила запретительный (регламентирующий) характер, отнимала у властей колоссальное количество времени и бумаги. Распоряжения правительства и князей доводились до сведения жителей либо письменно (на досках объявлений), либо устно (оглашались на деревенских сходах). Распоряжения, вывешиваемые на досках объявлений, служили учебным материалом в школах при буДдийских храмах (тэракоя). Отличительной особенностью таких распоряжений было отсутствие «мотивировочной» части — жителям предписывался тот или иной способ поведения без объяснения его причин.
Японец проживал в регламентированном и предсказуемом пространстве — не только социальном, но и физическом. В этом пространстве частные дома, учреждения, магазины, театры, публичные дома, возделанные поля занимали раз и навсегда определенное властями и традицией место. Занятия были наследственными, местожительство — тоже. Для совершения путешествия требовалось разрешение властей. Земельный надел не дробился и передавался старшему сыну, младшие сыновья часто занимались отходничеством, но это было именно отходничество, а не перемена места жительства. Многие должности в административном аппарате были наследственными — они передавались старшему сыну. Сетования маргинальных мыслителей, ратовавших за отбор способных людей в аппарат управления, оставались неуслышанными. Люди не искали (не имели возможности искать) «лучшей доли» за морем (или «за горой»), «пионерский» дух подавлялся, степень оседлости населения была чрезвычайно высокой. Глава голландской фактории (1826—1830) Феликс Мейлан (Felix Germain Meylan, 1785—1831) писал, что «сын не может занять в обществе более высокое положение, чем его отец; <...> сын, который осмелится занять более высокое положение, чем отец, будет считаться безусловным нарушителем того, что считается правильным — до такой степени, что это будет сочтено за преступление»16.
Общий ритм жизни был выстроен из расчета на извечность существующих порядков, будущее время тоже рассматривалось как полностью предсказуемое. В 1836 г. залезший в долги даймё княжества Сацума заключил с кредиторами соглашение, согласно которому завершение выплаты долга предусматривалось в 2085 г. Капитан Головнин отмечал: ознакомившись в одной старой книге с описанием России прежнего времени, но получив уверения Головнина, что с тех пор все изменилось, японцы не хотели верить, «чтобы целый народ в короткое время мог так много перемениться», поскольку они исходили из «собственной привязанности к своим старинным законам и обычаям»17.
Общий курс образования, осуществлявшегося в разветвленной сети частных и княжеских школ (как для самураев, так и для простонародья), получивших особенное развитие со второй половины XVIII в., был направлен на усвоение учениками того, что высшей добродетелью является безоговорочное послушание — сюзерену, главе семьи, старосте, уездному и городскому начальству. Образцом послушания выступали самураи — главной добродетелью их неписаного кодекса чести (бусидо) выступала верность сюзерену. Таким образом, от общества требовалось, чтобы в этом отношении оно вело себя в соответствии с идеалами военных людей. Сохранилось большое количество сочинений представителей всех сословий, которые свидетельствуют о том, что вопросам церемониальное™ и этики уделялось огромное внимание. При всей разности подходов для большинства из них характерно воспевание послушания, трудолюбия, честности, этикетности поведения, долга, личной верности, подчиненности человека интересам коллектива.
Образованность глубоко проникла в японское общество. Считается, что в середине XIX в. грамотой в той или иной степени владело около 40 % мужчин и 15 % женщин. Что до самураев, то практически все они были грамотными. В связи с этим ксилографическое книгопечатание получило широкое распространение, в крупнейших городах работали сотни библиотек, плотность информационной среды была — для общества такого типа — чрезвычайно большой. В обществе на всех его уровнях присутствовал пиетет перед грамотным и ученым человеком. В условиях жесткой цензуры считалось (приходилось считать), что грамотность и книгопечатание — это не столько рассадник «свободомыслия», сколько эффективное средство для поддержания общественного порядка.
Сёгунат мыслил себя не только административным распорядителем, но и моральным лидером, учителем «народа», который открыто позиционировался как «неразумный». В связи с этим прилагались настойчивые усилия по внедрению в его среду моральных ценностей. Периодически издавались распоряжения, призывающие к неукоснительному исполнению семейных обязанностей, они вывешивались на досках объявлений. Перед частными домами устанавливались таблички, свидетельствующие о том, что здесь проживают чадолюбивые (многодетные) родители и родителелюбивые дети.
Часты были и указы, запрещающие (ограничивающие) излишества и роскошь — фейерверки, посещение зрелищных мероприятий (выступления уличных артистов, театральных постановок и соревнований по борьбе сумо). Осуждалось ношение драгоценностей, изысканные курительные трубки, гребни, шелковая одежда, пышные свадьбы, дорогое питание (например, сладости, ранние овощи и фрукты), неумеренное винопитие и т. д. Одежда ярких расцветок также не поощрялась, показателем приличия и вкуса считались неброские цвета. Европейцам же цветовая гамма японской юлпы представлялась крайне убогой: «...я нигде не встречал такого бесцветного однообразия покроя и окраски одежд, как в Японии. Верх здешнего щегольства заключается в том, чтобы подобрать целую гамму из оттенков какого-то мучного, не то сероватого, не то рыжеватого цвета, напоминающего паутину»18.
Всячески поощрялись экономность и бережливость: жителям предлагалось пользоваться домашней утварью максимально долго, откладывать до последней возможности ремонтные работы в доме, не тратиться на излишества и т. д. Никого не удивляли и запреты на азартные игры, на «нескромные» картинки и книжки (в их число попадали и знаменитый средневековый роман «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, и сборник любовных новелл X в. «Исэ моногатари»), «безнравственные» театральные постановки. Свободная любовь считалась проявлением неконтролируемой и разрушительной страсти, а потому не подлежала воспеванию. Место «любви» занимал семейный долг, «Лунь юй» Конфуция имел больше читателей, чем «Повесть о Гэндзи». Физическое наслаждение мужчин обеспечивали обитательницы лицензированных «веселых кварталов». Закрепленное в указах власти раздражение ими вызывалось не столько «аморальностью» или же «развращенностью», сколько их шикарными нарядами. То есть к проституткам предъявлялись те же самые требования, что и к другим обитателям страны.
Все эти ограничения и регламентации проводились в жизнь с завидной последовательностью — нарушители попадали в тюрьму; магазины, где торговали товарами сверх порога указанных цен, безжалостно закрывались. Общий курс сёгуната был рассчитан не столько на увеличение производства, сколько на ограничение потребления. Это касается не только «простонародья», но также самураев и даже самих князей. И даже сёгунов, которые, бывало, являли себя своим вассалам в самых простых одеждах. Убранство сёгунского замка представлялось европейцам чрезвычайно скромным. Статусный разрыв между различными социальными группами был огромным, но, если судить по европейским стандартам, разница в материальном положении не была столь кричащей. Несмотря на ограниченность средств, бакуфу и князья не предпринимали серьезных усилий для увеличения налоговой базы, которая с начала XVIII в. и до