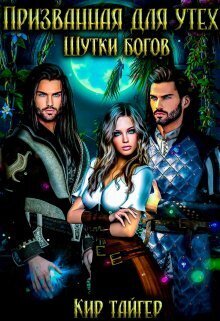всё же стоит.
— Мать тебя обидела, жена?
— Долго ещё? — она вполоборота отвечает.
— Пять этажей, — сверяюсь с цифрами, мелькающими на табло. — Ты меня услышала?
— Да.
— Ответь, пожалуйста.
Я хочу, чтобы она мне рассказала, пожаловалась, попросила защиты, приказала разобраться с «этой женщиной». И на это я пойду. Жена несправедлива, когда считает, что я её стыжусь. Я за неё боюсь. Волнуюсь. Я за неё переживаю. Я хочу бороться. И я борюсь. Ну… В силу своих способностей и количества препятствий, которые она мне, не гнушаясь, нагребает.
— Она меня спасла, Юрьев, — теперь хохочет злобно.
— А ваши отношения — это благодарность за спасение?
— За спасение, которого я не хотела.
— Ты двадцать лет замужем, должна понимать, что мужикам нужны более конкретные ответы и чёткие послания.
— Я вешалась на твоём ремне, а она меня спасла, из петли выдернула. Бедная, как она орала, когда держала мои ноги и боялась отпустить. А вдруг…
— Что ты мелешь?
Ольга поворачивается ко мне лицом и заглядывает прямиком в мои глаза.
— Дурачок поверил!
— Придумай что-нибудь другое.
— Я не умею обращаться с дрожжевым тестом, Юрьев. Она меня заколебала своими нравоучениями и…
— Она колдует с нашими вещами, — а я, как маленький герой подполья, сейчас сдаю родную мать.
— Что? — у неё ползут на лоб глаза, а пальцы поджимаются, формируя маленький кулак на каждой тонкой кисти.
— Привороты в ход пошли, солнышко. Мать перешла на тёмную сторону.
— Она больная…
Оставшиеся два этажа мы сохраняем полное молчание. Жена, уставившись перед собой, следит за створками и ждёт, когда будет подана команда:
«Приехали! Давай на выход!»;
а я смотрю на женский профиль и облизываю ментально-виртуально красиво очерченные скулы и тоненькую шею, на которой есть едва заметный шрам, как раз на уровне гортани.
Глава 28
То же время
— Ты затащил меня сюда для того, чтобы я грела тебе постель?
Зачем я спрашиваю, если всё и так, без объяснений, ясно? Вероятно, для успокоения незатыкающейся совести, восстановления утраченного равновесия, и чтобы довести до белого каления здорового козла. Козла, который наслаждается моим сменяющимся, как слайды, настроением, гуляющим между двух точных, всегда недостижимых математических границ. «Супремум*» — я, чёрт возьми, на взводе, а «инфимум*» — накапливаю последние силёнки, желая грубо отомстить ублюдку, прижав стопой горлянку, намереваюсь обездвижить сучьего щенка, которого потом оближет оскалившаяся мамка с огромной вавкой в гиппокампе.
— И не только. Чем именно ты недовольна? Но постель ты греешь превосходно, а врёшь не очень…
Да! Ах, как жаль, что с месячными ни хрена не вышло, а Юрьев, оказался, не дурак.
— Это просто к сведению, солнышко. Особенно, когда играешь роль «Гав-Гав». Дружок на корточках в твоем чудесном исполнении… М-м-м! Секс-догги, да ещё с утра, когда ты сонная, но очень возбужденная… М-м-м! Люблю-люблю-люблю тебя, — бухтит себе под нос, не поднимая головы.
— Ты насилуешь меня, — внезапно обрываю восхищение, как хищник, оголяю зубы, мгновенно вздёргивая верхнюю губу. — Смотри в глаза, когда разговариваешь со мной.
— Нет, — без тени смущения, серьезно и спокойно отвечает. — Впредь садись на переднее, тогда у тебя появится возможность не только смотреть на меня, но и трогать, даже бить. А вообще говоря, не выдумывай, пожалуйста. Никакого принуждения или силы не было и нет. Ты ни разу не отказала, зато постоянно подставлялась, тыкаясь своей упругой задницей мне в пах. Твоя бравада относительно всегда отсутствующего в нашей близости оргазма не выдержала простой проверки сексом. Чего скромничать — я счастлив. Поймал тебя на лжи, — ну да, ну да, так, видимо, мужчина утешается, когда ничего другого безутешному не остается. — Сегодня дважды — и только за это утро, как бы между прочим, в душе и на журнальном или обеденном столе — ты кончила с красивым криком и судорожной дрожью в руках-ногах. А эти откидывания, увиливания от ласк, когда воспалённая горошина болит, пульсируя, служат точным и неопровержимым доказательством того, что…
— Это настоящее насилие.
Тюрьма по самоуверенному гаду плачет. Он допросится — я заявлю, а после подтяну имеющиеся доказательства, которых за годы нашей совместной жизни собрала немало. Юрьев находится на карандаше у правоохранительных органов, а это значит, что за возбуждением дела по соответствующей статье ни хрена не станет.
— Нет.
— Да.
Мне нужно научиться лучше управлять своим паршивым телом. Боже мой, как Ромка щерится, при этом вырастая в собственных глазах. Я не отказала? Ладно, пусть будет так. А ему в голову ни разу не пришло, что я его боюсь, потому по-сучьи унижаюсь, помалкиваю в тряпку и предпочитаю получать физическое удовлетворение, хоть и слабенькое, на «троечку», иногда на «два» солидных балла, вместо раскроенного черепа или начисто с плеч сорванной башки. И он, конечно, понимает это, как мое красноречивое:
«Да! Да! И да! Бери и пользуйся, любимый!».
— Да, Юрьев, да.
Ещё раз, что ли, повторить?
— Нет, Оль. Никогда, — мотает головой. — Не обвиняй меня в том, что я не делал и не делаю.
— Я, стало быть, выдумываю? Я вру, по-твоему?
— Ты кокетничаешь. Это мило, детка. Мне нравится, когда ты такая.
— Что? — о, Боже мой, как широко, наверное, распахиваются мои глаза, а рот желает всё же выдрать пальму первенства у зенок. — Ни черта у тебя самомнение, Юрьев! — с присвистом восклицаю. — Никогда не замечала за тобой подобной наглости. Самоуверенность взрастил недавно? Обновление скачал, установил и начал юзать…
— Пока с тобою спал, — подло прыснув, заканчивает за меня. — С самооценкой всё нормально, как и с наглостью. Но ты, любимая, тащишься от моего внимания…
Если он добавит к этому, что:
«Мать была права! Мужчина бегает за сукой, которая хвостом метёт и писькой завлекает»; то я его своими собственными руками, без сожаления, особо не задумываясь, возьму и придушу, впиваясь в шею острыми ногтями. Пусть! Пусть меня осудят за то, что так, по-шекспировски, зато с гарантией, быстро и эффектно развелась. Боже, как он гордится тем, что делает со мной, а я ещё его жалела. Жалела, когда увидела после заточения, почти как возвратившегося домой с затяжной войны героя, получившего не одно смертельное в голову и грудь ранение.
— Лёлик, ты, зайка, думаешь, что, если мы «помиримся», — зачем-то добавляет этот пошлый жест руками, изображая те кавычки, которых вроде бы и нет, а он их в быстром темпе согнутыми пальцами возле морды выставляет, — я перестану интересоваться тобой? Мол, устоявшиеся привычки, обязательства, скука… Нудный быт? Согласен, что через это мы не прошли с тобой, когда только-только познакомились. Ты жаждешь моих ухаживаний? Я не ошибаюсь? Хочется