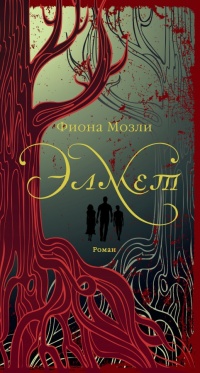Когда ты видишь бездыханное тело, покрытое скорбной смертной бледностию, в глухую пору ночи, когда в безмолвной тьме мерцает тусклый огонь твоей свечи, и слышишь погребальный звон, возглашающий печальную весть миру, который замирает, внемля сим звукам, — скажи, в силах ли ты тогда помыслить о том, чтобы и впредь предаваться мимолетным наслаждениям и увеселениям скоротечной жизни?[238]
Некогда леди Тансор, пленительная и беззаботная, была украшением любого общества. Теперь же она всецело сосредоточилась на мучительном ожидании своей неминуемой кончины. Мне и сейчас тяжело говорить о последних месяцах, когда она стала совсем уже непредсказуемой и невменяемой. Мой кузен распорядился, чтобы жену ни на минуту не оставляли одну, и приставил к ней женщину из деревни, миссис Марианну Брайн, чтобы она ночью спала на раскладной кровати рядом с ложем ее светлости. Днем же, даже когда с ней находилась мисс Имс, одна из служанок неизменно сидела за дверью комнаты, ключи от которой у миледи отобрали, дабы она не смогла снова запереться.
Но принятые меры предосторожности оказались недостаточными, и однажды ночью, когда от мороза земля была твердой как камень, леди Тансор выскользнула из дома в одной сорочке. Ее нашли наутро на тропе, ведущей к Греческому храму, расположенному близ западной границы парка, — грязная и растрепанная, с ободранными о шипы терновника босыми ногами, она бродила там, испуская душераздирающие вопли и стоны.
На несчастную накинули одеяло, и Габриэл Брайн — тогдашний конюх его светлости и муж женщины, присматривавшей за ней ночью, — на руках отнес ее обратно в усадьбу. Брайн сам рассказывал мне, что она продолжала лепетать всякий вздор, стонать и страдальчески восклицать время от времени: «Он для меня навек потерян, мой сын, мой сын!» — но когда он, пытаясь ее утешить, сказал, что все в порядке и господин Генри спокойно спит в своей колыбели, миледи впала в неистовство и принялась визжать, извиваться, вырываться, выкрикивая ужасные проклятья. Только уже в переднем дворе, при виде своего встревоженного мужа, стоявшего под фонарем в портике, она вдруг стихла, закрыла глаза и бессильно обмякла на руках Брайна.
Несколько мгновений лорд Тансор молча смотрел на свою некогда прекрасную жену, ныне представлявшую собой столь плачевное зрелище. Я стоял позади него, в дверях. Потом его светлость кивнул Брайну, и тот прошел со своей печальной ношей в дом, поднялся по лестнице и уложил госпожу на кровать леди Констанции, с которой она больше уже не поднималась.
Леди Тансор мирно скончалась 8 февраля 1824 года, в начале седьмого вечера, и тремя днями позже была погребена в мавзолее, построенном прадедом ее мужа.
Так завершилась жизнь Лауры Роуз Дюпор, урожденной Фэйрмайл, жены двадцать пятого барона Тансора. Теперь я перейду к скрытым последствиям сей трагической жизни и, наконец, к преступлению, совершенному в ущерб кровным интересам моего кузена. Но я надеюсь, страстно надеюсь, что душа свершителя преступного деяния обрела милосердное прощение Того, в Чьих руках все мы однажды окажемся.
III
22 октября 1853, суббота
Сразу после похорон лорд Тансор вызвал к себе мисс Имс и попросил ее покинуть Эвенвуд по возможности скорее. Он присовокупил щедрое дополнительное вознаграждение к причитающемуся компаньонке жалованью, холодно поблагодарил за услуги, оказанные покойной жене, и выразил надежду, что не давал ей повода для жалоб на дурное обхождение. Мисс Имс отвечала, что у него нет нужды беспокоиться на сей счет и что она весьма признательна за уважение, которым пользовалась в Эвенвуде.
Мой кузен не потрудился спросить ни мисс Имс, ни себя самого, есть ли у нее дом, куда вернуться. А дома у нее как раз не было: ее вдовый отец умер вскоре после бегства миледи во Францию, а все сестры повыходили замуж. Одна из них, впрочем, жила в Лондоне, и именно к ней мисс Имс отправила из Истона телеграмму с просьбой о временном пристанище.
Оставив мисс Имс паковать свои немногочисленные вещи к отъезду, его светлость явился в мой рабочий кабинет и велел мне собрать все личные бумаги леди Тансор и отнести на хранение в архивную комнату. Желает ли он перечитать их, когда я все подготовлю? Нет. Желает ли он просмотреть или самолично рассортировать их? Нет. Будут ли у него какие-нибудь дальнейшие распоряжения относительно бумаг ее светлости? Нет. От меня требуется лишь одно еще: убрать незаконченный портрет миледи из Желтой гостиной и повесить «где-нибудь подальше от глаз». Имеет ли милорд в виду какое-нибудь определенное место? Нет. Не станет ли он возражать, если я повешу портрет здесь, в своем рабочем кабинете? Нисколько.
Примерно часом позже в дверь ко мне опять постучали — то мисс Имс пришла попрощаться. Она тепло поблагодарила меня за различные мелкие услуги, которые я с удовольствием оказывал ей на протяжении всего времени своей работы в Эвенвуде, и сказала, что всегда будет помнить меня как доброго друга. Затем она произнесла слова, премного меня озадачившие:
— Вы ведь никогда не станете думать обо мне плохо, правда, мистер Картерет? Мне было бы неприятно… просто невыносимо… случись такое.
Я решительно заявил, что ни при каких обстоятельствах не переменю своего мнения о ней, ибо действительно считал мисс Имс весьма здравомыслящей и благонадежной особой, по природе своей чрезвычайно доброй и отзывчивой — я так и сказал ей, а еще добавил, что никто не смог бы служить покойной миледи более усердно и преданно, нежели она, и одно это всегда будет вызывать у меня восхищение, поскольку умение добросовестно исполнять свои обязанности перед работодателем или благодетелем является, по моему разумению, одной из главных человеческих добродетелей.
— В таком случае я спокойна, — промолвила мисс Имс с бледной улыбкой. — Мы с вами оба верные слуги, так ведь?
С этими странными словами она удалилась, чтобы подготовиться к отъезду. И больше я никогда не видел мисс Джулию Имс.
На следующее утро, после традиционного визита к кузену, я принялся обшаривать покои миледи в поисках писем и прочих документов, которые надлежало отнести в архивную комнату, согласно полученному распоряжению. Я нашел множество разных бумаг в лакированном бюро, стоявшем у окна в гостиной, а также в шкапчиках и столах с выдвижными ящиками, но нигде не обнаружил костяной шкатулки, прежде несколько раз попадавшейся мне на глаза и привлекшей особенное мое внимание в тот день, когда я принес миледи фелтемовские «Суждения». Я искал с величайшим усердием — по два-три раза перерыл содержимое каждого шкапчика и выдвижного ящика, даже опустился на четвереньки и заглянул под огромную кровать с балдахином, — но без успеха. Не переставая гадать, куда же подевалась шкатулка, я уложил все бумаги в саквояж, принесенный с собой, вернулся в свой рабочий кабинет, а оттуда поднялся в архивную комнату.
Оставлять бумаги в беспорядке было противно моей природе, а потому я решил рассортировать их по категориям и в общих чертах описать, прежде чем положить на хранение. Дело не заняло много времени, и уже через час на столе у меня лежали кипы квитанций, счетов, блокнотов, записок и памяток, писем и черновиков писем, а также альбом для автографов, толстая тетрадь с памятными цитатами и афоризмами в позолоченном стальном футляре, записная книжка с оригинальными стихами и прозаическими фрагментами, адресная книжка в тисненом переплете из телячьей кожи и ряд других предметов. Раскладывая бумаги, блокноты и тетради по кипам, я не удержался от соблазна заглянуть в иные из них (а кто удержался бы?), хотя признаюсь, при этом я испытывал легкое чувство вины — ведь мой работодатель велел мне оставить архив миледи неразобранным.