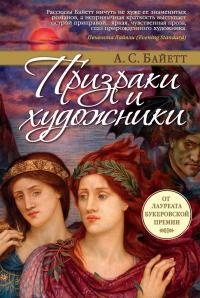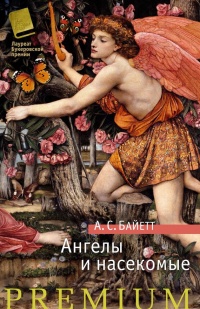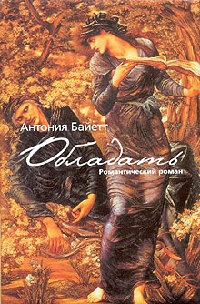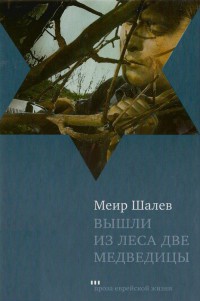32. Saturnalia[280]
Сады Лонг-Ройстона наполнились голосами и движеньем, позолоченными паланкинами и прожекторами со змеями проводов. В особняке господские спальни и чердачные комнатушки, где некогда невидимо спали армии слуг, были теперь заселены актерами, техниками, бутафорами и людьми, неизвестно чем занятыми. Автобусы привозили оркестрантов, танцоров, любопытных (а со временем и публику) из Калверли, Йорка, Скарборо. Приезжали отовсюду, чуть не из Лондона. Эти орды были призваны Кроу, который отмечал их перемещения во времени и пространстве на картах и календарях, развешанных в Большом зале. Кроу был волшебник с полным карманом блестящих цветных кнопок. Он составлял расписания репетиций чернилами изумрудными, ультрамариновыми, киноварными. Он объяснял гостям тонкости своих схем, вооружившись длиннейшей старинной указкой, позаимствованной Александром из школы. Он открыл пришлецам свои владения, поясняя: вот сад удовольствий, зимний сад, сад пряных трав, водный сад. Вот каменный лабиринт, называемый римским, но на самом деле намного более древний. Недавно Кроу велел осмотреть его с вертолета и подновить по мере надобности песком и самшитовыми бордюрами.
Корзины бумажных роз, целые ящики алебард и рапир прибывали в фургонах и до поры хранились в конюшнях и заброшенных кладовых. Завезли заранее пиво в количествах изрядных и шампанское – в несколько меньших. Странные звуки и дуновения реяли над потайными полянками и рощицами. В розарии контратенор неустанно заверял кого-то, что здесь нет ни змей, ни кровожадных медведей. В кухонном садике чей-то испанский акцент ломался о шипящие звуки анафемы. На лужайках за низкими изгородями мчались в хороводах взмокшие нимфы и пастухи.
Кроу сообщил Марине, почивавшей теперь под лунным балдахином нисходящей Селены, что дело принимает размах пышных проездов самой Королевы-девственницы. В закатном золоте, заливавшем террасу, мисс Йео царственно вперилась в него поверх шампанского и проговорила, что на меньшее он, вероятно, и не рассчитывал. Кроу не стал отрицать, что обожает всевозможные действа.
– Завтра привезут фейерверки. О, я уйду с треском и громом, а там пускай студенты топчут мои лужайки. Я сейчас наблюдаю дивное зрелище: множество людей, занятых тем, что я называю Искусством, а не тем, что они называют жизнью.
Мисс Йео заметила, что из толп, притекавших в Лонг-Ройстон, ни один человек еще не уехал восвояси. Так оно и было в тот год в творческой суматохе июля и августа. Сияло солнце, актеры репетировали, рабочие таскали декорации и забивали гвозди, а прочие устраивали пикники на траве и каменных ступенях, спали, глазели, ссорились, пили, любили друг друга.
Как-то к вечеру Александр пришел в зимний сад, откуда долетали не вполне натуральный смех и взвизги. Из-за плотной, лоснистой от зимних ветров живой изгороди ничего не было видно. Возле узкого входа в сад на дорическом постаменте поместился каменный купидон. Прислонясь к нему и загорелой рукой охватив его ноздреватые серые ягодицы, стоял Эдмунд Уилки в небесно-голубой рубашке, таких же очках и белых шортах, суженных книзу. Он улыбнулся Александру:
– Гений у садовых врат.
Александр на мгновение принял сие за своего рода комплимент, но потом сообразил, что Уилки, вероятно, имел в виду себя.
Уилки тем временем продолжал:
– Бен никак не добьется лада от этой троицы. У девчонки задок так и просит, чтоб его нашлепали или хотя бы ущипнули. Пожалуй, займусь этим. Или займитесь вы.
– Там нечего шлепать, – отвечал Александр, занимая наблюдательную позицию по другую сторону от входа. – Желания щипать ее я тоже не испытываю.
– Неужели? Даже во имя искусства?
– Даже во имя.
При виде Уилки, воплотившего пухлую пародию на красавца кисти Хиллиарда, почти невозможно было самому не принять некой позы. Поймав себя на этом, Александр нарочно застыл, как неловкий часовой, и подумал, что лет через десять увесистый зад Уилки достигнет размеров феноменальных. Мягкими пальцами Уилки поглаживал маленький твердый фаллос и яички купидона. Александр счел за благо обратить взоры в сад.
А в саду разыгрывалась первая большая сцена Елизаветы, Александра и Фредерики. Принцесса Елизавета мечется по саду, преследуемая сатиром и интриганом Томасом Сеймуром и собственной мачехой Катериной Парр. Бешено хохоча и размахивая ножницами, эти двое кромсают ее платье на сотню лоскутов. Александр надеялся здесь намекнуть на противоречия чувственной натуры героини – смесь свирепого сластолюбия и мертвящего страха, жажды власти и глубокого одиночества. В словах принцессы слышен нерассуждающий ужас. Он не раз слабым эхом отзовется в пьесе, но не повторится никогда. Так решила Елизавета – чтобы он больше не повторился. Впрочем, до слов, написанных Александром, пока не дошло: Лодж пытался научить актеров кричать, смеяться и бегать. Учеба шла медленно. Томаса Сеймура играл местный библиотекарь, суровый мужчина по имени Сидни Гормэн, который, как и Фредерика, внешне был очень похож на своего персонажа. Катерина Парр больше походила на бывалую женку из «Кентерберийских рассказов» Чосера[281], чем на печальную и страстную королеву-пуританку. Ее играла Джоанна Пламмер, супруга местного адвоката, обычно изображавшая матерей в любительских постановках.
– Бегом! – требовал Лодж. – Беги бегом, как люди бегают!
Посреди зимнего сада был небольшой фонтан. Вода струилась из перевернутой раковины, которую держала нимфа, с лукавой улыбкой свернувшая хвост кольцом. Фредерика побежала вокруг фонтана. Гормэн и Джоанна – за ней. Фредерика предприняла отчаянную попытку встряхнуть волосами и даже уперлась рукой в бедро неуклюже и неестественно. Потом вдруг театрально замерла и с вызовом оглянулась на преследователей, но те были слишком близко и грузно затопотали на месте, чтобы на нее не свалиться.
– Не то! – взревел Лодж и тут же смягчился. – Не то… Фредерика, на прослушиваниях в тебе была такая забавная сексуальность. Куда она делась?
Гормэн, налетевший на край фонтана, растирал щиколотку и всем видом показывал, что ему трудно в это поверить.
– Сексуальность проявляется, когда она говорит, – заметил Уилки, обернувшись к Александру.
Фредерика сказала Лоджу:
– Могу я повторить свою речь?
Она была до отчаянья расстроена своим неумением двигаться. Переходя от высокомерия к детской покорности, она одновременно решила, что может вмиг утвердить свое естественное превосходство актрисы и королевы и что должна стать податливым, безликим воском в руках режиссера, который вдохнет в нее жизнь и вылепит по своему желанию. Теперь она не знала, блистать ли ей талантами или двигаться как марионетка. Она ненавидела Лоджа, который не объяснял, как нужно бегать, и унижал ее, не видя, что в ней это не заложено. Гормэна и Джоанну она в расчет не принимала. Оба были ей физически противны, и она давала это понять так, что Лодж, привыкший к мелким завихреньям энергии в труппе, отлично все видел. Уилки тоже видел и забавлялся. Когда Гормэн или Джоанна по сценарию обращались к Фредерике, она упорно не смотрела им в глаза. Это в чем-то отвечало характеру героини, но и вредило немало: все сбивались и играли топорней.